|
Воспоминания об одесских диссидентах.
Части 13 и 14
"Я признаюсь – это было довольно глупо, дать себя арестовать. Может даже
бессмысленно. Но я следовал своим чувствам, а они мне говорили на своем странном
языке – отступать нельзя"
<<< Части
11 и 12
Часть 13. Начало
В начале января 1980 года, 5 числа, в субботу, я вышел утром из дома и
направился к центру города. Погода была пасмурная. В те времена машин на улицах
было вообще не много, а в тот день очень мало. На противоположной стороне я
сразу приметил белую «волгу» и на всякий случай держал ее в поле зрения. После
того как я прошел метров 50, машина тронулась, но предварительно из нее вышли
два молодых человека в темных пальто.
Я прошел наискосок сквер Хворостина, зашел за угол и вошел в комиссионный
магазинчик. Поскольку молодые люди шли на приличном расстоянии от меня, они не
заметили мой маневр и потеряли меня из виду. Постояв на перекрестке, один из них
решил зайти в магазин. У меня не осталось никаких сомнений в том, что это были
за молодые люди. Тогда я решил обойти книжные магазины, а не идти к моим
знакомым, как это я планировал сначала. Начал я с ближайшего на углу Советской
Армии (Преображенская) и Чичерина, затем пошел на Дерибасовскую и так далее. Я
обошел весь центр города и всюду встречал этих молодых людей.
В эту зиму я был уверен, что меня вскоре арестуют, поскольку я все время
замечал сопровождение. Я старался не обращать на это внимание, но это не всегда
получалось.
На следующей неделе я уехал в командировку в Севастополь на три дня. После
возвращения в воскресенье я и моя жена решили с сыном поехать в центр города.
Просто прогуляться. В троллейбус вслед за нами зашли молодая женщина и мужчина.
Оба отличались от остальных пассажиров тем, что они были сконцентрированы.
Что-то в них было необычное. Я также заметил «волгу», которая стояла за
троллейбусом и тронулась вместе с ним и, хотя его обогнала, не спешила и ехала
впереди. На следующей остановке я опять заметил ту же «волгу». В троллейбус
зашел еще один молодой человек, на которого я также обратил внимание. Когда мы
вышли из троллейбуса, то молодые люди остались в нем. Но «волга» была
по-прежнему возле остановки. Мне показалось, что «волг» было даже две. То есть я
заметил действительно две «волги», но не знал, есть ли у обеих связь со мной. Мы
вышли к Приморскому бульвару. Было довольно мало людей, все были на виду. Все
время была видна молодая девушка, которую я заметил еще в троллейбусе. Бросалось
в глаза передвижение некоторых персон - они были просто как привязаны к нам,
хотя и держались на расстоянии от нас и старались вести себя независимо. От
Приморского бульвара вниз ведет знаменитая Потемкинская лестница, а по обе
стороны расположен луна-парк, который расположен на склоне. Вдоль лестницы был
выстроен эскалатор.
Просто из любопытства - что будут делать наши преследователи - мы с
Приморского бульвара спустились в парк. С нами был ребенок, который свободно
бегал и поэтому мы непринужденно могли наблюдать за ребенком и в то же время
наблюдать других людей. Уже знакомые нам персоны рассредоточились наверху, на
Приморском бульваре, но так, что им было нас видно. Мы спускались медленно
наискосок к проходу под эскалатором на Потемкинскую лестницу. Это длилось
довольно долго, поскольку наша цель была дать возможность ребенку побегать.
Непосредственно за нами никто не спускался. Поэтому, кода мы вышли на
Потемкинскую лестницу, наблюдатели остались наверху, между нами было большое
расстояние. Кстати, кроме молодых людей, был еще один человек лет пятидесяти
пяти, их руководитель. В этот момент мы решили подшутить. Я подхватил сына и мы
побежали вниз. Эскалатор был в закрытом застекленном туннеле, в конце которого
была пристройка, в которой находилась касса. Мы забежали в эту пристройку и
остановились. Вслед за нами влетело два или три человека, в том числе и их
руководитель, которые не останавливаясь, проходили мимо нас и становились на
эскалатор, который транспортировал их наверх, а они смотрели на нас.
Остановиться возле нас и стоять они не решались. Их руководитель стоял на
эскалаторе и что-то возбужденно говорил в микрофон, который он прятал под
пальто. Мы решили сделать вид, что ничего не заметили, тоже встали на эскалатор
и поднялись на Приморский бульвар. Теперь наши преследователи были уже
обеспокоены и держались к нам поближе.
Действительно, «волг» оказалось две и соответственно преследователей человек
8. Мы прошлись по Приморскому бульвару, вернулись к зданию горсовета, пошлись по
направлению к оперному театру, то есть от моря, вернулись назад. Пошли по
Пушкинской от Приморского бульвара, дошли до первого перекрестка и свернули за
угол. Наискосок через улицу стоял дом, в котором жила тетя моей жены и мы быстро
перебежали через улицу, вбежали во двор и зашли в квартиру на втором этаже. Из
окна я наблюдал, как на улице суетятся наши преследователи, забегают во дворы
домов в поисках нас. Мы посидели, поговорили, попили чай и часа через два пошли
дальше. Как только мы вышли из двора на улицу, заметили «волгу», которая вдруг
на большой скорости дала задний ход и так на заднем ходу завернула за угол. Мы
пошли к троллейбусу. Конечно, с нами в троллейбус зашли молодые люди, конечно,
возле стояла «волга». Мы поехали домой. Мы вышли на нашей остановке из
троллейбуса, я поставил сына и огляделся. Одна волга поехала вслед за
троллейбусом, забрать тех, кто с нами не вышел.
Мы находились на оживленном транспортном узле. Там пересекались 4 трамвайные
линии и две троллейбусные. Проезжало много автомашин. В этот момент из-за угла
выехал 5-й трамвай. Мы опять решили пошутить. Подождали, когда трамвай
приблизился и остановился, перебежали улицу и в последний момент заскочили в
трамвай. Наши преследователи, видимо, несколько расслабились, поскольку думали,
что мы пойдем домой. Никто из них не успел заскочить в трамвай. Я только увидел,
как поехала «волга» и ей наперерез побежало два человека и чуть ли не на ходу
заскочили в машину. Позади трамвая уже было две или три машины, обогнать трамвай
не было никакой возможности, поскольку линия была проложена по середине улицы.
На следующей остановке, а мы остались на задней площадке последнего вагона,
мы сразу не вышли и я заметил, что «волга» чуть завернула за угол, из нее
выскочило два человека и побежало к трамваю сломя голову, тогда мы тихонько
вышли из трамвая, но не отходили от него и стояли в группе стоящих и выходящих.
Эти двое заскочили в трамвай мимо нас. «Волга» уже уехала. Трамвай тронулся.
Возле остановки жила наша знакомая, и мы зашли к ней, посидели, поговорили,
попили чай, подождали, пока стемнеет и пошли домой. Подходя к дому, мы заметили
на улице одинокую фигуру. При нашем приближении человек зашел в наш двор, мы не
заходя домой пошли за ним и ускорили шаг, он стал еще быстрее уходить. Наш двор
был проходной, и он ушел от нас, конечно, но мы еще некоторое время шли за ним,
пока он не скрылся за углом. Тогда мы вернулись домой. Теперь и моя жена
убедилась, что за мной началась слежка.
Это не так легко, объяснить другим, что за тобой следят. Все знают, что такое
происходит или может произойти. Но каждый раз в это трудно поверить. Все
начинают сомневаться, спрашивать: «А тебе не показалось?». Мания преследования
вполне может развиться у человека, который опасается, что за ним могут следить.
Это довольно серьезная опасность.
Некоторые люди, принадлежащие к кругу диссидентов – и я знал, по крайней
мере, двоих - пытались объяснить все неприятности вмешательством КГБ. Это своего
рода пропаганда. Поэтому скепсис знакомых, до определенного момента, был очень
разумным в таких случаях. Я не увлекался мыслями о слежке. Есть слежка и есть.
2
Мы были уверены теперь, что меня вскоре арестуют. Я воспринимал это как факт.
В то же время я не мог воспринимать этот факт всерьез. Это был факт из театра
абсурда.
Я осторожно постарался моих знакомых предупредить, что за мной постоянная
слежка. Так прошло месяца полтора. 20 Февраля 1980 года была арестована Анна
Михайленко.
Когда прокуратура дала разрешение на арест Михайленко, у КГБ были развязаны
руки. Видимо КГБ уже была известна моя роль, и они решили попытаться привязать
меня к делу Михайленко, сделать свидетелем и, возможно, провести обыск в моей
квартире. Я полагаю, что у КГБ было тогда достаточно информации, чтобы против
меня открыть дело, но КГБ не хотело высвечивать людей, которые дали обо мне
информацию. Им нужны были показания других людей, а не тех с которыми они уже
договорились и которые им были еще нужны. Кроме того, им нужен был не только я,
но и вся система библиотеки.
Но я не встречался с Михайленко и с теми, которых они наметили в свидетели по
делу Михайленко. Потому КГБ не удалось меня в связи с делом Михайленко
допросить. Не было оснований так же проводить у меня на квартире обыск. После
ареста Анны Михайленко слежка не прекратилась, однако, по моему представлению,
не была такой активной. КГБ также имело ограниченные средства и возможности, и с
арестом Михайленко должно было сосредоточиться на ее деле. В пятом отделении КГБ
работал тогда майор Лев Валерьевич Кулябичев и, наверное, им руководил.
Лев Валерьевич был очень активный человек и даже нравился некоторым молодым
женщинам, с которыми он беседовал. Я с ним познакомился уже после того, как меня
арестовали. Человек он был очень активный и честолюбивый. Мне стало известно
позже, что он ездил в другие города, например, в Ленинград и Ереван. Тогда я
очень недоумевал – почему? Этот вопрос прояснился уже позднее, после того как я
попал в лагерь ЖХ-385/3/5 28 декабря 1982. Тогда там было вместе со мной 22
диссидента, точнее сказать, людей, арестованных за антисоветскую агитацию и
пропаганду. КГБ тогда было довольно активно и в лагерь стали прибывать регулярно
диссиденты, так что с декабря 1982 до лета 1983 прибыло человек 12 - 13. Среди
прибывших были Гелий Донской и Михаил Поляков из Ленинграда и Рафик Папян с
Георгием Хамизури из Еревана. Все были очень симпатичные и интересные люди и
сели все за одно и то же - за литературу. Видимо, Кулябичев пытался найти связи
нашей библиотеки с этими людьми. Конечно, связи с Питером были, но никого из
названных диссидентов я, к сожалению, до ареста не знал.
КГБ не верило в самозарождение идеи библиотек и создания коллекций самиздата.
Им все казалось, что есть какой- то центр, какой-то руководитель выдуманной ими
сети. Короче говоря, они думали, что диссиденты имеют организацию. А этого не
было. Некоторые организационные структуры возникали, поскольку одни люди были
более активны, другие менее. Но самиздат было народное движение. Связи
существовали, но я не могу сказать достоверно, кто читал книги из нашей
библиотеки и в каких городах. Мне никто не отчитывался, в какой город кто увозил
книги. Конечно, у меня были свои знакомые, и кое-что я знал, но мне и в голову
не приходило контролировать движение книг в подробностях. Связи существовали, и
эти связи были определены общностью интересов, а не общностью целей. Почитать-то
хотели все. И партийные руководители и – даже – сотрудники КГБ. Тайком и они
почитывали.
3
После того, как я заметил систематическую слежку, жизнь моя переменилась. Я
даже бросил курить – каждая привычка в лагере это обуза. Может, это была ошибка.
Я начал толстеть, и мое самочувствие стало ухудшаться. Впрочем это и не
удивительно: некоторые мои друзья смеялись надо мной и сравнивали с Корейко
(Золотой теленок), поскольку я вел двойной образ жизни. Днем работал, а по
вечерам занимался самиздатом, толком покушать было некогда. Я был все время в
движении. Конечно, постоянно кто-то приходил домой. Это было время постоянного
общения, от которого я, конечно, со временем, изрядно устал. К тому же в конце
1980 года родился второй ребенок, и это была дополнительная нагрузка. В
результате я был сильно перегружен.
Я был озабочен в то время двумя основными проблемами. Во-первых, я хотел
спасти библиотеку и, в лучшем случае, ее кому-нибудь передать. Во-вторых, я
решил подготовить к публикации некоторые научные результаты. Большинство
результатов, и как я думаю, интересных, мне так и не удалось до сих пор
опубликовать.
Фима Ярошевский - одессит, конечно - написал книгу «Провинциальный роман-с».
Писал он собственно не книгу. У него было огромное количество листочков бумаги,
на которых он делал заметки о своих друзьях и знакомых. Эти заметки он постоянно
корригировал, вычеркивал слова и над ними писал другие, более подходящие. Эти
листочки ворохом лежали у него на столе, как мне казалось, безо всякой системы.
Это был процесс, у которого не должно было быть конца. Из этого получилась
каким-то образом книга, которую я еще не читал. Фима есть стилист. Он не
стремился написать много. Он писал и переписывал, уточнял текст. Он хотел
написать хорошую книгу. Он не очень рассчитывал опубликовать ее. Он только это
тайком очень хотел. Эту книгу он все же действительно недавно опубликовал.
Как-то он пришел ко мне, а я, открыв дверь, взмахнул руками, сказал «Как мне
все это надоело» и пошел по коридору вглубь квартиры. Фима и не сомневался, что
он у нас желанный гость и пошел вслед за мной. Я так был перегружен, что уже не
мог иногда себя сдерживать. Фима описал позже этот эпизод. Включил ли он его
позже в свою книгу, я не знаю.
Диссент требовал много времени и много труда. Было много переживаний из-за
знакомых, поскольку постоянно кто-то был под угрозой ареста или уже был
арестован. Меня угнетало то, что было много планов, которые почти не удавалось
воплотить. На работе я был на хорошем счету, но моя научная работа продвигалась
медленно, поскольку я был сосредоточен на совсем других проблемах.
В той ситуации, в которой я находился, я ни у кого не мог получить совет, что
мне дальше делать. Большинство людей принимают важные решения несколько раз в
жизни. Но мне приходилось между 1974 и 1982 годами принимать много решений на
свое усмотрение, которые влияли на мою судьбу.
О таких вещах как карьера в 1979-1980 годах было уже поздно думать. Я жил как
и раньше, но многое, что радовало моих друзей и знакомых, меня уже не трогало,
было просто не интересно.
4
Я, конечно, много знал о КГБ, но все же был достаточно наивным. Я представлял
себе сотрудников КГБ при всем при том людьми достаточно посвященными в тайны
политики и истории. Около двух лет после начала слежки и до ареста я вел, так
сказать, внутренний спор с КГБ. Это мне было необходимо, чтобы утвердиться в
своей позиции. В КГБ не вели каких-то дискуссий. Следователи ставили вопросы, и
хотели на них получить ответ. Вот и все, что их интересовало. В конце концов,
они хотели признания вины, раскаяния, сожаления по поводу распространения
клеветы на советскую власть. Что такое диссент, они не знали или знали плохо.
Они, в конце концов, выполняли приказ.
Выдуманное слово «антисоветчик» нуждалось в том, чтобы оно имело какую то
связь с реальностью. Для этого нужны были живые люди, живые антисоветчики. Я
знал, что меня причисляют к таким людям.
И мне как «антисоветчику» нужно было иметь позицию, четкую позицию, и
доказательство того, что эта позиция верна.
Почему-то всю эту дурную игру я воспринимал довольно серьезно. Почему-то я не
смог сказать после ареста следователям КГБ:
- Ребята, хватит валять дурака. То есть, в конце следствия я пытался говорить
на таком языке, но не достаточно внятно.
Пропаганда обладает такой силой, что со временем те, кто выдумал ее, не могут
уже от нее избавиться. С одной стороны они к ней привыкли, с другой стороны они
заставили, принудили людей в эту пропаганду верить. Отступать от нее опасно
всем.
Как то я прочитал, что когда Пастернака отправили в Германию, с ним коротко
перед отьездом говорил Троцкий, который ему, интеллектуалу, сказал примерно
следующее:
- Это неважно, верна наша теория (кажется теория о диктатуре пролетариата)
или нет, важно то, что ее взял на вооружение пролетариат.
Пролетариат взял на вооружение теорию, эта теория требовала, чтобы
существовал враг. И враг находился. Одним таким врагом стал я.
Летом 1981 года, уже после обыска на квартире, мы поехали в отпуск к моей
матери в Новую Каховку. Я сказал матери, что меня могут арестовать. Она ничего
не знала о моих делах, но почему-то не удивилась. Потом я об этом рассказал
следователю Паранюку. Он меня спросил:
- И что она Вам сказала?
Я ответил:
- Она сказала: «Что им, уже некого больше арестовывать?». Должен сказать, к
его чести, что ему стало несколько нехорошо. К тому времени мы общались уже
несколько месяцев и, в общем-то от традиционного образа врага советской власти,
с которым следователи начинали расследование, осталось не много.
Все-таки чтение философской литературы помогло мне. Не потому, что я встретил
хорошо эрудированных противников, а потому, что стал понимать многообразие мира,
в котором было место и КГБ и «антисоветчикам».
Я должен сознаться, что к сотрудникам КГБ у меня не было враждебных чувств.
Мне скорее было их жалко, моих современников, которые сами путались в сетях
советской пропаганды. Правда, они и не претендовали на многое. Они делали свою
работу как могли. Для них подготавливали материал на предварительном
расследовании и они, в соответствии с этим материалом, должны были задавать мне
и свидетелям вопросы. Ответы они должны были записывать, и записывать так, чтобы
доказать, что они разоблачили «антисоветчика». Так например, когда они в начале
ставили вопрос (я пишу приблизительно, надо как-нибудь собраться и заглянуть в
материалы дела):
- Где Вы взяли найденную у Вас на обыске книгу антисоветского содержания
«Архипелаг ГУЛаг» - я требовал убрать из вопроса слова «антисоветского
содержания» под угрозой не подписать протокол допроса. На вопрос, после того как
эти слова были убраны, то есть следователь должен был перепечатывать заново всю
страничку, я отвечать отказывался, но протоколы подписывал. Печатал он очень
медленно и, наверное, поэтому отказался от борьбы со мной на этой позиции. Я же
не собирался подписывать протокол, поскольку, подписав протокол, как бы
признавал, что книга действительно антисоветская.
Это был своего рода коллективный психоз. У нас на работе в институте люди в
основном были нормальные, в основном молодые люди. Молодые люди были в основном
комсомольцы. И однажды началась суета. Одна девочка отказалась идти на
комсомольское собрание. И вот эти милые молодые люди вдруг на нее обозлились. Им
непременно хотелось заставить ее идти на это собрание. Я был случайным
свидетелем этой истории, которая стала принимать нехороший оборот. Эти милые, в
общем-то, молодые люди решили пожаловаться начальству, секретарю
парторганизации. Я был немного постарше и меня это вообще не касалось, но я не
мог не вмешаться и сказал:
- Ну что она вам сделала? Оставьте лучше ее в покое. Ну вы нажалуетесь, будет
конфликт, она как-то пострадает и что вы выиграете?
Разгоряченные комсомольцы вдруг задумались: «чего это мы?». И действительно
оставили девочку в покое.
Но у сотрудников КГБ был тот же раж. Непременно заставить диссидента
покаяться. Тут было больше, чем служебное рвение. Здесь была личная
заинтересованность, необходимость самоутверждения – а что, он не такой как все?
Тут можно, конечно говорить о правах человека и о свободах – но все это будет
проскакивать мимо ушей.
Мне как-то в силу моего положения на работе удавалось избегать конфликтов на
идеологической почве. Но однажды руководитель группы, к которой я был как
теоретик приписан, решил показать власть, или был вынужден это сделать, и
подослал руководительницу какого-то идеологического семинара, на который я не
ходил, ко мне с требованием, чтобы я подготовил доклад. Мне была передана
записочка, на которой стояла тема этого доклада. Я не знал, что делать и готов
был пойти на открытый конфликт, но в последний момент, когда ко мне подошла
руководительница семинара в сопровождении руководителя группы, мне пришла в
голову идея, и я сказал, указав на записку с темой:
- Ты понимаешь, что здесь написано?
Она ответила растерянно:
- Нет.
Я сказал:
- Я тоже не понимаю. И зачем ты мне приносишь такие вещи, которые сама не
понимаешь?
В этой записке был набор слов из научного коммунизма с непременным словом
«диалектика».
Так дело и закончилось.
В том-то и была проблема, что большинство делало вид, что что-то понимает в
том, что не имело никакого смысла, но выглядело наукообразно. Как-то страшно
было сказать, что король-то голый.
5
Позже, три года тому назад (то есть в 2002 году), когда я вспоминал о том
времени, между началом 1980 и 10 февраля 1982, днем ареста, я написал
стихотворение Damals. Мне еще помогал при этом мой сын Дмитрий стихи онемечить.
Это мало написать грамматически правильно и мало написать интересно. Я думаю
по-русски свободнее, а, кроме того, немцам кое-что должно быть непонятно в силу
другого жизненного опыта.
Потом я переписал этот текст по-русски:
Тогда
Куда я ехал,
ехала их машина,
куда я шел,
туда же шли они.
Но
когда я говорил,
они молчали.
Они внимательно слушали.
Они
пытались
запомнить
каждое мое слово
Они не были моими учениками,
я не был их учителем.
В мозаике моих слов
они не искали смысл,
они искали материал для обвинения.
Ведь я
воплощал зло.
Они искали слово исхода
и безумный звук последнего вечера.
Они -
наследство погибающей эпохи.
Я шел по мосту
между прошлым и
будущим.
Они хотели этот мост разрушить.
Я шел
>по следам истории
и я был преследуем.
Я давал только новые имена
для старых вещей.
Это было
запрещено.
Я чувствовал
случайность удачи
и искал ритм
границ
человеческого
в бездушном мире.
Кому я мог это объяснить?
Я был врагом.
Они ненавидели меня.
Дьявольские силы были подвластны
им.
Они владели мощью огня.
Им легко было меня уничтожить.
Они это не
делали.
Это было чудо природы власти
во времена ee отмиранья.
Они знали
– моя гибель
Была бы гибелью и для них.
Это околдовывало меня.
Они исследовали мою жизнь,
но не знали:
Я так же их наблюдал.
Я
наслаждался расследованием
границ господства жизни
и чувства
истины.
В те годы
мною владело чувство осени.
Зимой и весной,
летом и
осенью
имел я осеннее чувство.
После первой бури в конце лета<
снова появляется солнце,
снова
высыхает земля,
цветы цветут.
Но небо уже слишком голубое,
слишком
красивое и ясное.
Это длилось.
Часть 14. Чувство истины
1
Наблюдать наш мир во всем его многообразии не легко, но наблюдение не
является проблемой самой по себе. Настоящие проблемы возникают тогда, когда мы
пытаемся этот мир описать, систематизировать наши знания, уточнить определения.
В конце концов выясняется, что как бы не хороша была созданная нами логическая
система, мы на ее языке можем сформулировать утверждение, которое в рамках этой
системы не можем ни доказать, ни опровергнуть. Ну вот, я это знал. Я знал также,
что если я последовательно попытаюсь описать то, что находится у меня в голове в
виде различных образов, то, во-первых, я обнаружу, что некоторые позитивные
утверждения, которые я считаю верными, противоречат другим, которые я так же
считаю верными. Во-вторых, это процесс бесконечный.
С такой точки зрения любая теория, которая претендует на то, чтобы быть общей
теорией всего, к которым я отношу и марксизм, пусть даже то, что нам
представляли как марксизм, не выдерживает никакой критики. Общая теория всего
невозможна. Тем не менее, ее можно пытаться построить, если этот процесс
доставляет удовольствие. Кроме того, математики придумали трюки, чтобы обходить
проблемы, которые возникают с работой с бесконечностями. Число p просто записать с
помощью цифр невозможно, это бесконечная последовательность цифр.. Но мы знаем,
как его вычислять с любой степенью точности и этого достаточно, чтобы жить с
иллюзией, что мы можем таким числом пользоваться как пользуемся конечными
вещами..
Меня раздражало то, что марксизм преподносился как научная теория, которая к
тому же еще является основой мировоззрения, которое является единственно верным.
Это, в общем-то, еще можно было пережить. Трудность для меня заключалась в том,
что я был обязан эту теорию признавать как верную теорию. Я обязан был это
сделать. Некоторые проходили мимо этого легко, воспринимали как некоторую
условность. Мне же это не удавалось. Из-за этого я чуть не завалил экзамен по
философии при окончании университета. Наш заведующий кафедрой, однако, увидев,
что дело идет к скандалу, поставил мне несколько простых вопросов, на которые
мне нужно было ответить «да» или «нет». На эти вопросы невозможно было ответить
иначе, чем в духе соответствующей теории и, в конце концов, я получил на
госэкзамене «4». Обычно все получали «5».
Я действительно стал увлекаться «буржуазной» философией. Конечно, очень
поверхностно. Но этого было достаточно, что бы после ареста я попал в отделение
судебной медицины, кстати, 14 отделение, психиатрической больницы в Одессе. Там
я провел два месяца. Сотрудники КГБ направили меня туда, поскольку я увлекался
философией и еще к тому же у меня был, с их точки зрения, математический бред. Я
категорически отрицал, что я создал свою философскую систему. По поводу
математического бреда психиатры только руками разводили, узнав, что я по
образованию физик-теоретик, работал до ареста в Академии наук и имею несколько
публикаций. Тем не менее, мне пришлось хорошо поломать голову над тем, чтобы
меня не записали психически больным.
2
Я не мог себе представить исторический процесс как поток, в котором я
нахожусь как частичка, действия которой уже предопределены. Я пытался вести себя
как индивидуум, как существо, наделенное волей и разумом, существо, которое
имеет право во всем сомневаться.
В конечном счете, что такое человек? Философы пишут о человеке. То, что они
пишут, и есть определение человека. Хотя это тоже никакое не определение. Это
только попытка определения.
Мы различаем истину и ложь, но как мы их различаем? Математика не изменится,
если положительные и отрицательные числа поменять местами. Но истина и ложь
жизни не симметричны. Мир человека существенно изменится, если его долги
превратятся в его доходы.
Мы переживаем трудные времена. Те идеалы, которыми жила Европа два столетия
после Великой французской революции, были не универсальны. Эти идеалы родились
из сомнения в существовании Бога.
Безграничный скепсис саморазрушителен. Его опасность для государства
очевидна. Государство нуждается в самооправдании. Послереволюционное
(атеистическое) разномыслие было строго со временем ограничено.
История Союза имела две основные версии. Обе версии были обоснованы. Но что
их связывало? Это не были две разные истории. Это были две стороны одной медали.
Но в этой истории не было места для человека в философском смысле, определение
которого я хотел найти.
Совершенно естественным путем возникает вопрос – как мы вообще можем понимать
друг друга?
Пытаясь ответить на этот вопрос, я пытался найти линию поведения, которая бы
заставила систему реагировать разумно на диссент.
Я хотел избавиться от эмоций, которые неминуемо вызывали действия КГБ и
попытаться развить систему отношений, которые бы вынудили КГБ признать
правомерность моих действий.
У Игрунова это развитие мыслей носило название поиска компромисса.
Дело было достаточно серьезное. Государство находилось в тупике, в который
оно себя загнало, как казалось, через привязанность к догматической идеологии.
Если эту идеологию и воспринимали когда-то условно, то с течением времени отказ
от идеологии сравняли с государственным преступлением. Мне это казалось полным
идиотизмом.
Как-то на работе я, вспомнив старые времена, собрал несколько молодых людей,
и мы выпустили стенную газету, в основном, что бы народ повеселить. При этом и
сами хорошо повеселились. Я тогда только недавно поступил на работу в Академию.
Нас еще попросили вставить непременно статейку про наших передовиков. Я написал
по заметкам нашего парторга, но слегка переделал текст и вместо «грамотный
специалист» написал «хорошо образованный специалист». Газету мы повесили, а на
следующий день ко мне подошел парторг и сказал,
- Слушай, ты в следующий раз, перед тем как вывесить газету, все же покажи
мне. Стенные газеты я больше не делал, но эту фразу запомнил. Что стали бы
делать в такой ситуации лет тридцать назад? Возбуждать дело по поводу
идеологической диверсии? Всякое отступление от шаблона вызывало ужас. Однажды
это обернулось плохо для одного заведующего районной типографии в Одесской
области. Он договаривался с председателями колхозов, и они списывали столь
драгоценную в те времена бумагу. Он печатал на этой бумаге книги, которые
пользовались хорошим спросом. Подделка под официальные издания была очень
хорошая. Никто ничего не замечал, дела шли хорошо. Но в одной передовице, да еще
посвященной празднику революции, в районной газете была допущена ошибка,
кажется, не точно был перепечатан текст центральной газеты. Кто это в общем-то
читал? Я бы сказал – никто. Но вот были старые большевики, которые эти тексты,
трудно отличимые один от другого, читали! Видимо им доставляло удовольствие
именно то, что эти тексты не отличались один от другого и в этой обезличенности
они видели стабильность установленного порядка. Но вот ошибка. Что это -
опечатка или зашифрованный сигнал? Я в такие головы не заглядывал, я могу только
предположить, что в них происходило. Человек, конечно, написал донос и,
внезапно, приехала комиссия Центрального Комитета партии выяснять – а не
образовалась ли в районе новая оппозиция. Нашли же они запрещенное производство
разрешенных книг.
Исторические корни проблемы с какого-то времени стали для меня
второстепенными. Задача была – найти выход из тупика, из которого государство,
казалось, само не может выйти.
На самом деле это был лишь вопрос времени и прихода нового поколения.
Задолго до того я сформулировал это в такой форме: «Стремление к свободе
возрождается в каждом новом поколении». Некоторых моих знакомых это успокаивало.
3
Свобода. О свободе писали и будут писать. Но одно дело, когда о свободе пишут
люди, которым это не запрещают делать и когда пишут люди, которым о свободе
писать запрещают.
О свободе много писали немецкие философы 18 века. Так что Гегель с изумлением
поставил вопрос: «Почему о свободе писали немцы, а революцию устроили
французы?». Ответ известен - прусское государство устроено идеально и не
нуждается в улучшении - в смысле, что уже все необходимые свободы в государстве,
которое организовано на принципах протестантизма, существуют.
Немцы часто пишут и говорят о загадочной русской душе. Это стереотип. Но и
душа древних греков была загадочна. Вдруг они стали плавать по морям и
основывать колонии, строить города. Их родина не была связана с определенным
географическим местом. Национальная традиция сохранялась как культ, в котором
основную роль играет жрец, образ жизни и форма отношений между людьми. В то
место, куда греки приходили, они приносили свою отчизну.
У них не было возможности колонизовать всю землю. Но они появлялись всюду,
куда могли доплыть. Это был новый дух. Все свое носили греки с собой. Они были
хорошие торговцы, но богатство не было у них самоцелью. Потеряв один город, они
плыли в другое место, чтобы построить другой. С собой они везли знания и умения.
Запад следует римской традиции - собственность, государственность,
территория, власть. Мы следуем скорее греческой традиции - любовь к истине,
поиск, подвижность, свобода. Помните – природа не храм, но мастерская и человек
в ней работник?
Если человек не стремится к деньгам, уюту и комфорту, стабильности – что же
он хочет, зачем живет? Мы моложе и потому просто беззаботнее. Мы можем себе
позволить делать глупости.
Я признаюсь – это было довольно глупо, дать себя арестовать. Может даже
бессмысленно. Но я следовал своим чувствам, а они мне говорили на своем странном
языке – отступать нельзя.
Конечно, я имел свое собственное логическое обоснование своим действиям. Но
это объяснение я придумал впоследствии. Не зря говорил Талейран - бойтесь
первого движения души, потому что оно самое благородное. Он был прав, но он был
гениальный политик. Но диссент и гениальность не имеют ничего общего.
В Одессе в свое время ходил анекдот. Пришел пенсионер в горисполком. Никто
его не слушает, его проблемы никого не интересуют. Тогда он сказал: «Вот,
посмотрите, я воевал, я работал, у меня вся грудь в орденах». А молоденькая
секретарша ему ответила: «Дедушка, успокойся, а с твоими медалями на базар не
пойдешь». Ценность диссента в его бесполезности и материальной беспомощности. Я
ходил по Одессе и на ходу думал обо всех эти вещах.
Новая власть сегодня также не ценит диссент, как его не ценила прежняя.
Старая и новая власть не отрицают друг друга, а дополняют одна другую. Произошла
передача власти от одного поколения к другому. Это меня радует. Плохо, когда
образуется вакуум власти. Политический кризис конца 30 годов заключался еще и в
том, что верхние слои власть имущих отстали от времени. Старые большевики
действительно были старые. После революции выросло новое поколение,
действительно новое и оно рванулось к власти. Это было стремительное и
безоглядное поколение, их, собственно, так и воспитывали. Оно было ужасным,
поскольку не было связано ни с какой традицией и религией. Начавшаяся война в
какой-то степени была благом, поскольку непокорная сила была мобилизована и
получила неполитический объект действия – фронт. Эта война была ужасна и, в то
же время, она является нашей национальной гордостью. История разделилась на «до
войны» и на «после». Война кристаллизовала качества народа и заново переоформила
его. Война была временем большого несчастья, но и временем большого душевного
подъема. Революция ликвидировала неграмотность, война способствовала расцвету
науки.
Теперь мы повзрослели и немного устали. Эта усталость была заметна уже в
семидесятые годы. Диссент для многих был явлением притягательным, но сил
поддержать его уже не было.
4
Наступала новая эпоха. Руководители страны в целом не были готовы принять ее
всерьез. Я уже был в лагере, когда услышал сообщение по радио, что Политбюро
КПСС приняло решение о производстве персональных компьютеров. Это был конец
эпохи цензуры. И не случайно этим вопросом занималось Политбюро. Еще во время
следствия меня вдруг, между прочим, спросил следователь Паранюк:
- А Вы знаете, почему на время праздников запирают пишущие
машинки?
Я с изумлением посмотрел на него. Он мне ответил с торжеством:
- Чтобы на них не печатали самиздат!
Эта традиция возникла, наверное, задолго до начала Великой Отечественной и
продержалась до перестройки. Пишущие машинки можно было купить, но это было
нелегко.
Страх перед распространением информации был, казалось, непреодолим. Самиздат
не был решением проблемы, но он был первым шагом в ее решении. Собственно,
самиздат был проявлением естественных потребностей человека. Буковский в книге
«Wind vor dem Eisgang» (Ветер перед ледоходом) Ulstein, Kontinent (в книге
написано, что это перевод с русского, но русское название не приведено и я не
знаю, издана ли книга на русском[1]), что в 1958
году был открыт памятник Маяковскому. При открытии памятника официальные
советские поэты прочитали свои стихи. А затем свои стихи, что было
неожиданностью, прочитали люди из публики. Произошло так, что после этого там
стали происходить регулярные встречи поэтов, и даже в одной московской газете
появилась информация об этих встречах. Там собирались почти каждый вечер
любители поэзии, в основном студенты, читали стихи, в том числе также стихи
забытых и неразрешенных поэтов.
Эти встречи были все же вскоре запрещены. В 1960 году Буковский и некоторые
его знакомые из Университета и Школы актерского мастерства решили эти встречи
возобновить. В результате этих встреч началась запись стихов и их
распространение. Ходивший туда Алик Гинзбург стал издавать известный журнал
«Синтаксис». Затем стали появляться другие самиздатовские журналы. Встречи у
памятника Маяковскому продолжались и туда ходили ученые, писатели, художники.
Среди них возникали дискуссии.
Там же познакомились между собой и будущие известные диссиденты – Галансков,
Хаустов, Осипов, Эдуард Кузнецов и другие.
Встречи не были сразу запрещены, но постоянно записывались имена участников и
передавались в институты. В результате некоторых студентов исключали.
Производились обыски, на которых конфисковывался самиздат. Возле памятника
устраивались провокации, и оперативники пытались завязать драки. Вскоре стали
появляться в партийной прессе статьи против тех, кто собирался на площади. Это
была даже реклама для этих встреч.
Я не собираюсь сейчас пересказывать всю эту историю вплоть до первого ареста
Буковского. Это очень интересный памятник эпохи и материал для исторического
анализа. Я, к сожалению, не имел возможности заняться поподробнее историей
развития диссента, хотя она меня очень интересует. Но из рассмотрения тех
материалов, которые есть у меня под рукой, я могу сделать вывод, что площадь
Маяковского сыграла решающую роль в формировании диссента.
Были известные писатели, которые много сделали для изменения политического
климата в стране. Где-то я прочитал, что Евтушенко между двумя попойками послал
телеграмму протеста против высылки Солженицына из Союза. Я бы не стал столь
неуважительно вспоминать об этом. Это тоже был поступок, на который многие не
решились. Евтушенко поступил как советский писатель, но не как диссидент. Обязан
он был быть непременно диссидентом? То есть поступить как Солженицын и обострить
до крайности отношения с государством?
Мы не можем от каждого человека требовать, чтобы он видел и понимал мир так
же, как мы. Это коммунисты делили мир на две части. И каждый должен был быть
отсортирован и приписан к определенному миру. Задача диссента была, на мой
взгляд, другая - показать что мир многообразен.
Государство было создано так, что свободомыслящий человек не мог долго
оставаться в этой системе.
Нам казалось, что где-то есть лучший мир. С такой позиции и описывает
Буковский свою жизнь. Я, читая книгу Буковского, увидел много моментов, которые
нас сближают. Но я вырос в других условиях и, все-таки, уже видел мир немного
иными глазами. Что поразительно, у него были сложные отношения с отцом. Тоже был
трудный ребенок.
У Буковского меня подкупает его простое изложение сложных поступков. Из
текста можно увидеть, что у Буковского было тяготение к политике, что он мыслил
политически, чем, наверное, и отличался от многих своих знакомых, так что даже
написал текст с критикой комсомола. КГБ, видимо имело опыт опознания политически
мыслящих людей и стремилось их деактивировать или приручить. Сложная
политическая ситуация - и руки свободны для неправовых действий.
Но здесь находит коса на камень – верность истине оказывается сильнее всех
жизненных опасностей.
И вот пришел момент – Буковского арестовали. Четыре дня он был в камере 102 и
затем его привезли к генералу КГБ Светличному, бюро которого находилось в
роскошном дворце. Буковский отказался отвечать на вопросы. Тогда генерал взял в
руки ордер на арест и сказал:
- Если ты не ответишь на вопрос, кто тебе книгу дал, то я подпишу это
ордер.
Как пишет Буковский, КГБ было хорошо известно, кто ему дал книгу. Это была
лишь грязная провокация - они хотели из Буковского сделать своего агента,
видимо, потому, что он привлек их внимание своими способностями. Но поскольку он
был упрям, его отправили в лагерь.
5
Нам было проще - мы видели свет в конце туннеля. Диссент стал легендой в
какой-то степени. Но почему к его истории относятся очень сдержано? Когда-то в
кругах партийного руководства был страх перед диссидентами – они хотят отнять у
нас власть. И да и нет. В целом для диссидентов власть не была смыслом их жизни,
но они стремились к изменению политики. Ну это же очевидно – человек идет в
лагерь не для того, чтобы жить получше. С властью же большинство связывает в
первую очередь привилегии.
Нет, конечно, диссент – это идея. Ее даже трудно выразить на словах, но легко
сделать видимой – через свое поведение. Поэтому к диссидентам предъявляют такие
высокие требования - слово и дело должны совпадать. Это, конечно, всегда
желательно. Но кто в действительности способен на это до конца? Сошлюсь на
исторические примеры – Сократ, Иисус Христос. Но они были люди веры. Диссент не
являлся религией, он развивался на границе с политическим идеализмом.
Я знаю, что КГБ издавало само книги, которые ходили в самиздате, и я даже
кое-что из этой литературы читал. КГБ писал историю диссидентов. Изданы ли эти
книги сейчас? Я не знаю. Как-то все же руководители КГБ или партии хотели
просветить правящий слой, особо доверенных людей, чтобы они не были ошарашены,
столкнувшись с самиздатом.
Я начал заниматься библиотекой по велению души. У меня не было никаких
потаенных мыслей. В результате я столкнулся с КГБ - совершенно иным
миропредставлением. Можно сказать, что идеи диссента связаны с представлением о
мировой душе, которая нас всех объединяет. Но тогда, в те далекие времена, я не
был готов высказать такую мысль вслух.
КГБ выражало как раз противоположную идею, потому что строило себя через
разъединение людей. Здесь даже существенно не то, что КГБ может открыть человеку
путь к благосостоянию или ввергнуть человека в нищету. Тайная полиция – это не
организация, это идея. Она выглядит для меня противоестественной, но она
развивается в другом пространстве - в пространстве борьбы мировых сил и властей.
Переход в это пространство – это переход от диссента в мир политики. Я этого не
сделал, но, общаясь с сотрудниками КГБ, я лучше понял их мир, и это было также
интересно.
Российская государственность является идеей римского происхождения в народе,
который дышит воздухом Византии. Бердзенишвили–младший, когда я ему в лагере дал
прочитать мое стихотворение, которое начиналось словами «Константинополь пал,
душа вселенной нам дух передала его нетленный», сказал что-то вроде того, что
эти русские вечно хотят взять то, что им не принадлежит. Сам он считал, что
Грузия является наследницей Византии. Я думаю, что византийская культура была
достаточно великой, чтобы от нее каждый народ мог что-то получить в
наследие.
Части 15 и
16 >>>
[1] Видимо, имеется в виду
книга Буковского «И возвращается ветер…».
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|
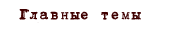

 В начало
В начало
 Узловые темы сайта
Узловые темы сайта
 Curriculum vitae
Curriculum vitae
 Miscellaneous
Miscellaneous
 Украина
Украина
 Каталоги
Каталоги
 Видео
Видео

 Библиотека
Библиотека

 Имена
Имена


 Скажи мне, кто твой друг
Скажи мне, кто твой друг


 А. Амальрик
А. Амальрик


 Л. Богораз
Л. Богораз


 М. Гефтер
М. Гефтер


 Н. Моисеев
Н. Моисеев


 Г. Павловский
Г. Павловский


 Н. Полторацкий
Н. Полторацкий


 Г. Померанц
Г. Померанц


 Другие
Другие

 Организации
Организации

 Печатные издания
Печатные издания Хроника обновлений
Хроника обновлений Архивы
Архивы Петр Бутов
Петр Бутов


