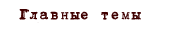
 |
|
Неформалы: почвенническая альтернатива
Леонтий Бызов, социолог: СКВОЗЬ ГОДЫ ПЕРЕМЕН
ПРЕДЫСТОРИЯ Пятковский: Как и когда Вы впервые столкнулись с неформалами (или будущими неформалами)? Бызов: Я вырос в достаточно политизированной обстановке; большинство людей, которые меня окружали, тяготели к диссидентским взглядам, моя мать дружила с семьей Сахарова, мы дома перепечатывали и раздавали знакомым самиздат. И в мае 76-го года мы с приятелем пришли к Сахарову в его квартиру на [улице] Чкалова с букетом роз поздравить с днем рождения - 55-летним юбилеем. Елена Георгиевна Боннэр нас внимательно окинула взглядом и позвала Андрея Дмитриевича: «Андрей, кажется, хорошие ребята; поговори с ними минут десять». Состоялся короткий доброжелательный разговор на сахаровской кухне. Правда, запомнился такой момент: при моём неосторожном упоминании Солженицына Сахаров сразу сжался: “У нас в доме эту фамилию не произносят”. Тогда только что вышел “Бодался теленок...”, в котором содержались обидные для Боннэр строки. А в сентябре 77-го года я вызвался помочь детям Елены Боннэр (Янкелевичам), уезжавшим в США, просто как рабочая сила: их мебель, книги таскали, а потом в награду я был приглашён на их прощальный ужин на даче Сахарова в Жуковке. Некоторое время я участвовал в выпуске “Хроники текущих событий” - в тот период, когда уже посадили Сергея Адамовича Ковалёва, и журнал вела Татьяна Михайловна Великанова. Тогда Татьяна Михайловна и Алексей Смирнов несколько номеров выпустили при моём участии (это было зимой 77/78-го годов.) Мне привозили сырой материал, такую большую электрическую пишущую машинку, которая страшно грохотала и непрерывно ломалась, я из этого материала что-то клеил и печатал в двенадцати экземплярах на папиросной бумаге. До лета 78-го года мы выпустили шесть или семь номеров. Так что первое более или менее серьезное столкновение пришлось ещё на более ранний период, чем Перестройка. Это – середина 70-х годов, когда я только что (в 77-м году) окончил университет. Потом я от этого дела отошёл на достаточно длительный период времени. Не потому, что испугался последствий (что посадят или выгонят с работы), а просто – разочаровался. К тому же тогда я почувствовал себя социологом. Последующие события, когда наши диссиденты уже проявили себя во власти (или близко ко власти) в 80-е и 90-е годы, только утвердили меня в тех моих чувствах, которые у меня тот недолгий период диссидентства вызвал. Эти люди при близком рассмотрении показались мне сектантами (я имею в виду как раз не Великанову, а, скорее, большую часть “героев” “Хроники...”), зацикленными на весьма узкий круг и интересов, и общения. Вся остальная жизнь страны выпадала из поля внимания этого круга, и меня это постепенно стало раздражать и казаться малоинтересным. Большая часть тогдашних диссидентов, активно поддерживаемых Сахаровым и близкими к нему людьми, не связывала свою жизнь с нашей страной, их мечтой был отъезд, причём на диссидентстве, реальных или мнимых страданиях, делали себе паблисити, хороший задел для жизни на Западе. И хотя среди диссидентов было и почвенническое крыло, но “Хроника...” им не особенно занималась. Но даже отойдя от недолгого активного диссидентства, ментально я всё равно чувствовал себя оппозиционером, сочувствовал борцам с режимом, и перестройку, когда стало ясно, что это серьезно, принял “на ура”. Тогда, в 77-м году, меня, может быть, ещё привлекала некоторая романтика подполья, потому что казалось: героические судьбы, люди сидят, о них говорит весь мир... (Стоит ли тратить массу усилий для медленного продвижения по лестнице академической научной карьеры, не лучше ли уйти в революцию?) Но обретя в 78-м году веру в свое социологическое призвание, я отошёл от этих настроений. Помню в июне 78-го года, когда я окончательно отказался от работы над “Хроникой...”, свой разговор с Алексеем Смирновым в скверике на улице Дмитрия Ульянова, рядом с тогдашним ЦЭМИ. Постепенно всё больше симпатий у меня стали вызывать наши писатели-почвенники, также оппонировавшие режиму, но совсем с других позиций. Мы взахлёб читали Виктора Астафьева и Валентина Распутина. А. Пятковский: У тогдашней передовой интеллигенции был в фаворе также Василий Белов. А я в силу малолетства имел неосторожность увлекаться ещё и Пикулем. Л. Бызов: Казалось, что это важно и что если советская власть раньше или позже кончится (а это было достаточно очевидно), то развитие страны пойдёт по этому пути. На смену коммунистическому режиму придут национально-патриотические идеи, связанные с возрождением исторической традиции, русской культуры, а магистральный путь развития страны – это такое умеренное почвенничество, возвращение к идеям непрерывности русской истории, русской цивилизации, традиций. Но по этому пути оно не пошло. На мой взгляд, примерно в 87-м году, по сути дела, произошёл разгром почвеннического движения, и в оппозиции, боровшейся с режимом, стали доминировать западники. Главным их неформальным лидером был Александр Николаевич Яковлев. Потом появились и другие лидеры. И это направление, что называется, растоптало почвенническую ветвь, надолго сделав почвенников маргиналами. Именно в силу этих настроений с сентября 83-го года у меня начался период, связанный с ВООПИК – Обществом охраны памятников [истории и культуры], когда одна знакомая затащила меня на их субботники. Тогда это направление было достаточно идеологизировано, и его курировали наши известные космонавты Аксёнов и Севастьянов Виталий Иванович, взгляды которых достаточно известны. (Это – ультраконсерваторы с сильным антисемитским уклоном.) Поначалу мы в старом Симоновом монастыре занимались по выходным физической работой – таскали мусор, разгребали могилы Осляби и Пересвета, залитые бетоном. На субботниках собирались не просто люди, а единомышленники. В перекурах за чаем и домашними пирожками формировалась некая такая идеология, которая мне тогда была, если не сказать, что совсем близка, но, по крайней мере, намного ближе, чем западническое правозащитное движение. Мне очень нравились люди, завсегдатаи этих субботников, нравились своим бескорыстием, подвижничеством, верой в свою правоту, каким-то духом добра. Пятковский: Замечу, что именно это и меня влекло тогда на такие субботники, про которые я узнавал из газеты «Досуг в Москве», и только необходимость рано вставать в выходной день помешала мне примкнуть к этому движению. Бызов: Тогда же я вступил в состав общественной инспекции ВООПиК, и здание московского отделения этой организации на Покровском бульваре надолго стало моим вторым домом. Там мы слушали лекции, проводили вместе свободное время. Но вот началась перестройка, и здесь, в ВООПиКе, стали происходить многие достаточно интересные события, очень показательные для той эпохи. Особенно это касается 86-87-го годов, когда перестройка шла уже во всю. Это во многом происходило на моих глазах.
ЩЕРБАКОВСКАЯ ОБОРОНА... (апрель 1986 г.) П: И тогда уже переходим непосредственно к Вашему знакомства с неформалами времён Перестройки. Б: Да, времён Перестройки. Здесь самая первая и самая, может быть, большая по значимости акция, связанная с ВООПИКом, пришлась на апрель 86-го года у Щербаковских палат. (Об этом [в интервью igrunov.ru] вскользь упоминал Малютин, но не совсем точно.) И дело даже не в самих палатах как таковых, а в том, что это была первая акция, когда общественность сумела настоять на своём. Это воспринималось как абсолютное чудо, потому что ничего похожего невозможно было даже предположить. Все, за что брался ВООПиК ранее, было в общем-то согласовано с московским партийным начальством, а здесь речь шла о проекте, подписанном и утвержденном на самом высоком уровне, уже заложенным в бюджет – прокладке Третьего транспортного кольца. Щербаковские палаты, расположенные на Бакунинской улице, были просто развалюхой, которую уже начали сносить, которая стояла без крыши и была завалена бревнами и мусором. Внешне трудно было заподозрить в ней палаты XVI века (когда застраивалась при Лефорте Немецкая слобода). Мы занимались разбором завалов в обречённом состоянии: идея была – поднять шум, привлечь внимание... Архитектор-реставратор Олег Журин (любимый ученик легендарного Петра Барановского), который с нами ходил на воскресные субботники, уже занимался обмером этих палат. Рядом находились ещё торговые ряды середины ХIХ века архитектора Даля, двухэтажный универмаг в стиле модерн чуть ли не Кекушева, немного подальше – церковь Бориса и Глеба начала ХХ века в стиле модерн. И всё это шло под снос. В общем, казалось, что можно лишь немного продлить их существование и задержать снос на считанные дни. Мы этим занялись на свой страх и риск, не получив активной поддержки у главы московского отделения ВООПиК Королева. Нас там было несколько человек: я, который тогда был старшим научным сотрудником ЦЭМИ и кандидатом наук; Кирилл Парфёнов, студент первого курса Бауманского института (точнее, высшего технического училища, - АП); начинающий журналист Рустам Рахматуллин (он и по сей день – человек очень интересный, эрудированный, знающий историю, архитектуру, автор множества книг и статей); молодой архитектор-реставратор Алексей Мусатов; религиовед Степа Филатов; сотрудник Музея архитектуры Лев Рассадников; историк Владимир Махнач, о котором разговор пойдёт особый. Был с нами и совсем маленький мальчик Кирилл Фролов, который сейчас является ответственным секретарём Союза православных граждан – очень важной персоной, с большим самомнением. Тогда ему было лет двенадцать. Справедливости ради следует сказать, что главным мотором всего этого предприятия был Кирилл Парфёнов, очень властный и даже нахальный юноша, который нами, взрослыми людьми, командовал, как хотел. Его тогда за прогулы выгнали из Бауманского, прислали повестку в военкомат, и он заставил меня отправиться на дом к космонавту Севастьянову попросить его поговорить с ректором МВТУ космонавтом Елисеевым, чтобы Парфёнова восстановили. И я как полный идиот пошёл выполнять этот приказ. А Севастьянов прямо не отказал, но конечно ничего не сделал. ...Как раз тогда мы с Кириллом Фроловым купили пять килограммов сахарного песку и ночью засыпали этот сахар в бензобак бульдозера – чтобы утром бульдозеры, которые готовились к сносу, не завелись. Причём Кирилл Фролов, будучи маленьким по размерам, залезал в кабину через окошечко, а я ему подавал сахар. А на стрёме стоял не кто иной, как Сергей Сергеевич Аверинцев (которого привел Степа Филатов). Он стоял на стрёме и подавал нам знаки, когда приближалась опасность. Казалось, что это – бунт одиночек. Несколько человек против огромной машины тоталитарного государства, где всё уже было известно – расписаны планы, выделены деньги, составлены сметы. Словом, огромная машина работает. Нас приезжал увещевать глава строительного отдела МГК КПСС Куренной, разговаривал с нами снисходительно, как с придурками. И вдруг оказалось, что в этом деле заинтересована масса людей. Буквально через несколько дней (а началось всё это стояние в воскресный вечер 13 апреля 86-го года), буквально уже через неделю там стали собираться толпы. То есть стали приходить люди уровня Аверинцева и профессора исторического факультета Казаржевского, которого, по-моему, Махнач привёл... П: Профессора МГУ... Б: Да, МГУ. П: Андрея Чеславовича... Б: Да, его самого. ...И кто только туда ни стал приходить! Вдруг, буквально за несколько дней, это превратилось в массовую акцию. Какой-то полковник привел взвод солдат-срочников и заставил всех подписать петицию против сноса палат. Елена Ивановна Калугина привела весь курс своих студентов. И всё кончилось тем, что в один прекрасный день Бориса Николаевича Ельцина втихаря привезли... Привёз не кто иной, как писатель Юрий Бондарев. (Сейчас это кажется очень смешным сочетанием: Борис Николаевич Ельцин и Юрий Бондарев – люди из диаметрально противоположных лагерей. Но тогда этого не было. Борис Николаевич только искал свою нишу, свою политическую судьбу и готов был принять любую идеологию, которая бы его вынесла наверх. А тогда трудно было исключить, что именно вот такая почвенническая идеология как раз и есть та самая карта, на которую можно ставить). Отец Кирилла Парфёнова, геолог, был знаком с Бондаревым, Кирилл связался с ним по домашнему телефону, и Бондарев, имевший влияние на Ельцина, уговорил того приехать. В субботу 19 апреля они вдвоём в машине Бондарева (чтобы Бориса Николаевича никто не опознал) приехали, никем не узнанные, на место стройки, постояли на другом берегу улицы, после чего была дана команда: строительство приостановить. И огромная машина строительства Третьего кольца была заблокирована на двадцать (на самом деле, на десять, - АП) с лишним лет, когда к этой идее вернулись, решив проложить через Лефортово уже тоннель. А тогда никакого тоннеля не предполагалось; предполагалось идти поверху и сносить Госпитальный Вал. П: По-моему, через парк ещё должна была трасса идти. Б: Да, через Лефортовский парк, который попадал практически в зону сноса. Так оборона Щербаковских палат стала последним камнем, который эту стройку прекратил. И мне тогда стало понятно, что в стране, действительно, происходят перемены и что это – не просто слова. Потому что произошло, исходя из нашего исторического опыта, нечто абсолютно невозможное. Потом Щербаковскими палатами занялась группа “Слобода” - Володя Гурболиков и Гриша Стриженов (ребята, близкие к группе “Община” и тогдашнему одному из лидеров неформалов Андрею Исаеву), сделала там что-то вроде музея... Но впоследствии я уже не очень следил за дальнейшей судьбой этих палат. П: В некоторых воспоминаниях защита Щербаковских палат приписывается группе “Слобода”. Как я понимаю, это уже – абберация памяти, потому что та группа занималась другими вещами и немножко позже? Б: Это – абберация памяти. Они активно взяли это дело в свои руки тогда, когда вопрос о приостановке строительства Третьего кольца был уже решён. Потом было много работы просто по приведению палат в порядок, потому что они были в таком виде, что трудно было понять, что это – палаты. (С советских времён в них находился пивной бар, потом их начали уже сносить, с них была сорвана крыша... Нужен был опытный взгляд Олега Журина, чтобы увидеть в них палаты). Да, они потом очень много делали, но эту горячую неделю, которая всё решила (с 13-го по 19-е апреля), эти семь дней борьбы выдержали именно мы. П: Может быть, тогда сразу назовёте и тех известных людей, кто состоял в группе “Слобода”? Б: Я их не знаю, потому что группа “Слобода” не была группой известных людей. Это были очень молодые тогда люди... П: Я имел в виду, разумеется, впоследствии известных... Б: Я их не знаю. Гурболиков долгие годы был связан с Исаевым, был его помощником. Собственно говоря, группа “Слобода” была неким филиалом группы “Община”, возглавляемой Андреем Исаевым. И они вокруг него тусовались. Потом Гурболиков занимался его газетой. (У них была профсоюзная газета с названием “Солидарность”; возможно и сейчас выпускается.) Я не хочу умалять их роли, но просто это – немножко другая история. И о них пусть вспоминают другие очевидцы.
...И ПОСЛЕ НЕЁ (1-я половина 1987 г.) Потом вся эта история получила довольно интересное продолжение. Казалось бы, мы – герои ВООПИКа, проведшие на свой страх и риск мощнейшую общественную акцию и одержавшие победу, равной которой за всю историю ВООПиКа, наверное, не было. Потому что одно дело – убирать мусор в Симоновом монастыре (что мы делали раньше), а совершено другое дело – остановить общесоюзную стройку, на которую затрачена масса денег и за которую власти отчитывались перед ЦК КПСС. Казалось бы, нас должны были носить на руках, и мы должны были стать героями дня. Да, так было – в течение, может быть, всего оставшегося 86-го года. Но уже начиная с 87-го года мы (главные герои этих событий – Кирилл Парфёнов, я и некоторые примыкавшие к нам люди) стали в этом ВООПИКе подвергаться травле уже со стороны самого ВООПИКа во главе с Сергеем Королёвым. Я не исключаю, что на Королева надавили в аппарате МГК КПССС, где нам, естественно, не могли простить несанкционированной активности. И с какого-то момента Сергей Владимирович стал смотреть на нас волком, хотя ещё совсем недавно он носился с Парфёновым, куда-то его в командировки даже посылал. Нас объявили персонами нон грата, и всё кончилось страшным скандалом: в июне 87-го года какие-то ребята типа боевиков нас (меня и Стёпу Филатова; мы специально пришли “подразнить гусей”, зная, что будет скандал) из общественной инспекции ВООПИКа просто под руки вывели – под улюлюканье публики, кричавшей, что мы – масоны, сионисты и бог весть кто и что “своими грязными жидовскими руками наше Русское Дело не марайте!”. Вообще, меня как только не обзывали: кто-то обвинял в русофильстве, кто-то – в масонстве, кто-то... То есть за свою жизнь я наслушался разного. А вот Кирилл Парфёнов, действительно, полуеврей, у него и внешность такая характерная еврейская. Он потом отошёл от защиты памятников и долгие годы был помощником депутата Павла Медведева. Сейчас у него - какой-то фонд, но этими вопросами он уже не занимался. Равно как и люди типа Аверинцева, Махнача – вся эта культурная московская публика, многонациональная, с разными корнями. Все они были объявлены масонами, подосланными для того, чтобы дискредитировать “Русское Дело”. Больше всех в этом ВООПИКе неистовствовал некий Олег Платонов, написавший потом много томов исторической хроники об истории масонства в России с обвинениями в масонстве многих людей того времени. Я их читал (они все вывешены в интернете), и мы там (с Парфёновым и Махначем) упомянуты не очень лестно - как “жидовствующие”. Хроники Платонова составлена крайне неряшливо, там передёрнуты абсолютно все факты, просто перевраны события (всё переврано). Поэтому какой-то дух идеи оттуда вынести можно, но как источник использовать хроники Олега Платонова нельзя. Там половина просто придумана, по принципу “одна баба сказала”. П: А Кирилл Фролов тоже стал жертвой гонений на космополитов? Б: Он тогда был маленьким мальчиком, но, по сути дела, тоже стал. Нас всех выгнали. И особенно Владимира Леонидовича Махнача, который считался среди нас главным отродьем сатаны, то есть именно тем самыми человеком, который нас, что называется, плохому научил. 6 мая нынешнего года (2009) Володи Махнача не стало. Это был один из самых достойных людей, с которым меня свела жизнь – блистательный лектор, знаток русской истории. Но особенно я его ценил как непревзойденного знатока истории архитектуры. Он был бесподобным экскурсоводом. В силу ряда сложных обстоятельств даже не получив в свое время диплома (позднее, в 40 лет, он его всё-таки получил), он добился признания, был в последние годы профессором в Архитектурном институте, в Вышке и в Православном университете. Последние годы он мне звонил один-два раза в год по большим церковным праздникам, обычно сильно выпивши, жаловался на потерю зрения. П: Можем двигаться дальше? Б: Нет, я хочу закончить рассказ о той истории с ВООПИКом. После того, как нас под улюлюканье под руки вывели оттуда в июне 87-го года, я в крайне раздражённом состоянии совместно с Сергеем Марочкиным (тоже немножко маргинальными деятелем этого круга) написал письмо – под копирку Яковлеву и ещё кому-то, в том числе и в “Огонек” - о том, что ВООПИК фактически оказался захвачен группой боевиков “Памяти”. (Тогда “Память” была на слуху.) Там был упомянут и архитектор Виктор Виноградов, руководитель Общественной инспекции, как один из идеологов “Памяти”[1]. Копия этого письма, попавшая в “Огонёк”, была опубликована в этом журнале 12 июля 87-го года. Это вызвало совершено бешеную реакцию в кругах патриотической общественности и у официального ВООПИКа, потому что, видимо, их вызвали в Московский горком партии и стали выяснять, действительно ли они имеют что-то общее с обществом “Память” и являются ли они его идеологами. Мне и сейчас некоторые мои знакомые это самое пресловутое письмо в “Огонёк” ставят в вину (что это был политический донос вроде). И я сегодня считаю, что, может быть, этого, действительно, делать и не стоило. Надо было успокоиться, сосчитать до ста или даже до тысячи, а что-то предпринимать уже на свежую голову. Может быть, и вообще в этот конфликт ввязываться не стоило, потому что оказались задеты люди типа Виноградова и Журина, которых я глубоко уважаю – какие бы разногласия между нами тогда ни были. Это – архитекторы-реставраторы, настоящие русские люди, и мне они духовно ближе, чем те, к которым я апеллировал, то есть Яковлев, Коротич и их окружение. “Жертвой” этого письма невольно стала и милейшая секретарь Севастопольского районного отделения ВООПиК Вера Лукашова, которая меня прикрывала как члена этого отделения и несла ответственность за мои действия. Если кто-то из них прочитает эти строки, прошу принять мои извинения и сожаления. Другое дело, что тогда, в 87-м году, я в последний раз в жизни переживал период политической эйфории (тогда казалось, что перестройка идёт ударными темпами, и надо всеми силами её поддержать). Потом, в 88-м году, я уже был переполнен скепсисом и от такого ура-восприятия жизни отказался. Хотя многие очень долго ещё пребывали в плену иллюзий такого вот детского восторга. Bпоследствии мне за этот восторг было стыдно, потому что социолог тем более не должен предаваться восторгу ни при каких обстоятельствах. Определённые издержки этого восторга сказались и на этой истории. Я много раз задавался вопросом, откуда эта самая “Память” тогда возникла. И мне кажется, что власти ей сознательно включили зелёный свет. То есть в этом был элемент провокации со стороны вот этого хитрого западнического яковлевского крыла, которое хотело создать себе монополию в рамках перестроечной парадигмы. Надо было вот это популярное, но плохо организованное стихийное почвенническое крыло раздробить, маргинализировать, вывести на поверхность заведомо психически неполноценных людей типа Олега Платонова, дискредитировать почвенническое крыло в глазах широкого общественного мнения, а потом объявить: “Посмотрите, что оно собой представляет. Это же просто дикари какие-то ”. Потому что, как я уже сказал, в начале 80-х годов все читали писателей-деревенщиков, и их идеи были у интеллигенции очень популярны. И так как к 87-му году все повернулись лицом на Запад, то это почвенническое крыло оказалось растоптано и замарано. И “Память” как возникла, так и исчезла бесследно. Мне кажется, что она была элементом того, что сегодня мы называем политическими технологиями. Что-то похожее потом произошло с РНЕ Александра Баркашова: они покрутились среди защитников Белого дома в 93-м году, напугали своей свастикой на рукавах “всё прогрессивное человечество”, а потом, сделав своё чёрное дело, бесследно испарились. Лидер “Памяти” Дмитрий Васильев – человек, по сути, ниоткуда, никакого авторитета в патриотическом движении у него не было, совершенно пустой низкопробный демагог. Между тем его руками произошла подмена “Памяти” “Памятью”. Дело в том, что еще с 70-х годов существовала “Память” как неформальное объединение деятелей русской культуры, озабоченных её культурным наследием. Её духовным отцом называли художника Павла Корина, а также Илью Глазунова, Виталий Чивилихина, министра культуры РФ Юрия Мелентьева, поэта Сергея Викулова, писателя Василия Белова, тех же реставраторов Виноградова и Журина и многих других. Такая культурная русская партия. Не без элементов антисемитизма, конечно, но кто не без греха? Так вот всплывает некто Д. Васильев, осуществляет раскол старой “Памяти”, присваивает себе ее бренд и начинает делать провокации, втягивая в них и замарывая людей, связанных со старой “Памятью”. Темная и какая-то грязная история. По сути, хорошее дело, связанное с ВООПИКом, оказалось принесено в жертву политическим амбициям и того, и другого лагеря, а Перестройка окончательно определилась как идея либерально-западническая – идея сближения с западным миром, с “цивилизованными” странами. И эта парадигма надолго заслонила всё остальное. Я думаю, что это имело очень нехорошие последствия для страны в смысле того нигилизма, который был характерен в последующие годы. В этом смысле решающие события я отношу к этому злосчастному 87-му году, который тогда казался необыкновенно удачным, счастливым. А то, о чём я говорил – это только некий край тех процессов, которые шли в каких-то высоких кабинетах, и мне один из краёв этих процессов каким-то образом удалось наблюдать вживую.
ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В этот период я достаточно близко познакомился с Малютиным, и 5 августа 87-го года мы по предложению Володи Сидорова (тогдашнего секретаря по идеологии Севастопольского райкома комсомола) в здании этого райкома комсомола устроили что-то вроде пресс-конференции в связи с моим письмом против ВООПиК. Малютин и я выступили и объяснили нашу борьбу с “Памятью” и происхождение того письма, а потом была как бы дискуссия. Туда пришёл архитектор Виноградов, архитектор Журин, который тоже оказался в том лагере... П: В “том” - противном? Б: Да, в противном, “памятном”, лагере. Пришла и Вера Лукашова. От Малютина, в нашу поддержку пришли Исаев и Василивецкий. Вячек Игрунов говорит, что тоже там был, хотя у меня это как-то выветрилось… История эта имела продолжение. Потом из ВООПИКа выгнали и Журина с Виноградовым, причём с теми же самыми обвинениями, что и нас. То есть это было как маховик сталинских репрессий – так по кругу и шло. Самое печальное, что, в конечном счёте, ВООПиК, ставший жертвой идеологической борьбы той эпохи, прекратил своё существование как дееспособная организация, игравшая заметную общественную роль. Москва за эти двадцать лет полностью уничтожена, и ВООПиК полностью бессилен. Щербаковское стояние так и осталось высшей точкой. Приличных людей напугали “Памятью”, и они перестали ходить в ВООПиК. П: В связи с чем на этой пресс-конференции/дискуссии возник Малютин? Б: Параллельно происходили такие процессы: весной 87-го года произошёл раскол Клуба социальных инициатив (КСИ)... Я не участвовал в работе КСИ и знал о нём только понаслышке, но в это время образовался некий выброс из этого КСИ под названием ФСИ (во главе с Сергеем Скворцовым), куда меня затащил Николай Львов. Поскольку я сам к этому времени к такого рода политическому неформальному движению относился довольно скептически, так как будущего в нём не видел, то меня просто затащили и познакомили со Скворцовым. Каждую неделю мы заседали в том самом ДК Кирпичного завода, который так красочно описал [в интервью Вам] Михаил Валентинович [Малютин]. Малютин, которого тоже выгнали из КСИ, был там со Скворцовым сопредседателем. Собираясь там по четвергам, я пожаловался на свои проблемы с ВООПИКом, изложил своё видение того, почему захват ВООПИКа “Памятью” общественно опасен, и от них, как от товарищей по неформальному движению, получил поддержку. Скворцов сказал: “Да, это очень важно. Мы тебе поможем”. И Михаил Валентинович вызвался вместе со мной поучаствовать вот в этой дискуссии. Я его раньше видел на клубе “Перестройка”, но ближе мы с ним познакомились во время событий вокруг этой истории. П: То есть раз он не был причастен к делам ВООПИК, то выступал, скорее, как эксперт? Б: Ни к каким ВООПИКовским делам он не был причастен и выступал, скорее, как общеполитический эксперт. П: А что Вы помните про ФСИ? Б: ФСИ – это выходец из КСИ. (Когда КСИ разложился, оттуда выгнали ряд людей.) ФСИ – это организация, в которой реально было несколько человек и которая держалась исключительно благодаря энтузиазму и амбициям Сергея Скворцова. Потому что все остальные люди никогда не пошли бы туда сами, если бы их настоятельно не позвали. С самого начала Скворцов, поругавшись с Гришей Пельманом, провозгласил, что в КСИ есть нехорошие люди, к числу которых он, кроме Пельмана, отнёс Павловского. Нехорошие люди, которые – западники, непатриоты, которые могут и Родине изменить. То есть это – не те люди, с которыми надо знаться. Вообще же неформальное движение – дело хорошее, однако это дело надо делать с хорошими людьми. И хорошие люди есть. Вот: Малютин – хороший человек, Кагарлицкий - хороший человек и ещё несколько людей. (Кто-то был, например, из “афганского” братства.) Тем более что эти люди рекомендованы Черёмушкинским райкомом. Такая вот была тусовочка. Но она ни к чему реально не привела. Скворцов так и не стал значимой фигурой, ушёл из политики, но я навсегда буду помнить, как мы с ним вместе сидели в Белом Доме под обстрелом 4 октября 93-го года. П: Что за братство Вы упомянули? Б: Кто-то из “афганцев”, из ветеранов. Я не помню сейчас его фамилию, но он постоянно туда ходил и представлял какие-то “афганские” организации. П: А у них уже тогда были свои общественные объединения? Б: Были, были. Я их не знаю, но они, безусловно, уже были. ...Это была попытка отделить овнов от козлищ и показать, что в неформальном движении есть хорошие ребята, а есть плохие. Вот ФСИ – это хорошие неформалы, хорошие ребята (с точки зрения перестроечного райкома партии). А с такими, как Павловский, нам не по пути. Про КСИ я почти ничего не знал. С Пельманом особенно не был знаком, ближе познакомился уже осенью благодаря Заславской. Павловского лишь видел, но толком знаком тоже не был, и моё с ним тесное общение началось только с декабря 89-го года. Я и по сей день отношусь к нему с огромным уважением как к человеку, сумевшему реализовать себя даже не на 100, а на 150%. В августе 87-го года состоялась известная встреча в ДК “Новатор”. Организовали её во многом именно под “хороших неформалов”, “хороших ребят” при поддержке Владимира Березовского, Михаила Лантратова и Николая Кротова из Черёмушкинского райкома партии, и Скворцов её воспринимал как некое партийное поручение. Была такая установка: дать выговориться всем, но, в конечном счёте, вырулить на какую-то нужную им линию. Поэтому нужно было не допускать “плохих людей” к ведению этих заседаний. Пусть там дура Новодворская (или Сквирский) говорят что угодно, но общее резюме должно быть в пользу “хороших перестроечников”, “наших людей”, патриотов советской страны. Поэтому даже я там, на пленарном заседаний в ДК “Новатор”, пару заседаний попредседательствовал по просьбе Скворцова. П: Вы имеете в виду первое пленарное заседание? Б: Да. Да. Потом мы продолжали заседать (какой-то наш “круглый стол” был там) на другом конце Москвы, в Институте Курчатова (точнее, в принадлежащем ему дворце культуры, - АП). Туда мы, я помню, с Махначом ездили и что-то там вели. Кстати, и Кирилл Парфёнов в этом участвовал. Но в основном это был ДК “Новатор”, о котором написала уже масса людей. Они более хорошо знают, как это всё было организовано и к каким результатам привело, и поэтому мне здесь добавить особенно нечего. ...Вполне возможно, что добро на это дал сам Ельцин, который стал тяготиться работой в МГК и метил на секретаря ЦК по идеологии. Неформальное движение могло для него оказаться кстати. Тем более, накануне Октябрьского пленума ЦК КПСС, на который Борис Ельцин возлагал особые надежды. По разработанному сценарию он должен был подвергнуть резкой критике всемогущего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачёва, второго человека в партии, занимавшегося как кадровыми, так и идеологическими вопросами – за то, что он тормозит перестройку, препятствует радикальному очищению аппарата партии от старой номенклатуры, игнорирует “инициативу и творчество масс”, в том числе всё громче заявлявшее о себе неформальное движение. Судя по всему, запланированный “залп” по Лигачёву вполне устраивал и Михаила Горбачева, давно уже тяготившегося чрезмерной активностью Егора Кузьмича, которому был обязан своим выдвижением на пост генерального секретаря. П: Расскажите о прекращении деятельности ФСИ, которое, как я понимаю, приходится на 88-й год. Б: Да. Я, перейдя в Советскую социологическую ассоциацию, от деятельности ФСИ довольно быстро отстранился. Во-первых, потому что был окружён другой кампанией – уже КСИшной. Это был не мой выбор, а Татьяны Заславской, но мне деваться было некуда. Я один раз привёл на заседание ФСИ Бориса Ракитского (по его просьбе), но он почему-то решил, что это – неофашисты. Почему он так решил, не знаю. Никакого повода для этого не было, но негативный шлейф остался. Своё мнение он высказал и Заславской. Вообще, профессор Борис Васильевич Ракитский – человек какой-то странноватый, прямо скажем, и что он про кого-то решит и подумает, это всегда было довольно сложно предсказать. Свои завиральные всякие мысли у него были, он и его супруга Галина Яковлевна пропагандировали очень левые взгляды возвращения к подлинному социализму, и некоторые называли их троцкистами. Ну это верно в том смысле что они представляли идеи антисталинистского, “антибюрократического” социализма. Уже тогда, в 87-м году, было понятно, что вся риторика Михаила Горбачёва о возвращении к подлинно социалистическим ценностям – просто болтовня, а Борис Васильевич к этому относился всерьёз. Впоследствии при Гайдаре он перешел в глухую оппозицию, рассорился со своим любимым учеником Шохиным. И как-то сошел на нет, исчез из нашего поля зрения. Ну а Галина Яковлевна принимала участие в первых шагах становления СДПР, и в этом качестве мы с ней не раз пересекались в последующие годы. Общаться с ней мне всегда было приятно и интересно. Сейчас она примыкает к “новым левым” Александра Бузгалина. Ну а Гриша Пельман организовал в ССА в короткий период расцвета нашей деятельности довольно мощное лобби для актива КСИ, постоянно его собирал на Мароновском, а также в НИИ культуры. Ну а деятельность ФСИ за это время несколько заглохла. Скорее всего, в 88-м году ФСИ фактически распался, но, может быть, я чего-то и не знаю, не буду настаивать. Но если сказать честно, то там и распадаться было особо нечему. Это – один из многих не до конца реализованных (таких запасных) проектов того времени, из которого просто ничего значимого не получилось с самого начала. Вот в октябре 87-го года мы пытались по следам нашей борьбы с ВООПиКом (я и Махнач преимущественно) создать через ФСИ альтернативный, независимый ВООПиК. Провели два-три интересных заседания, пришло много интересных людей, но на продолжение этой затеи у нас не хватило пороху. А так? Туда постоянно ходило - в этот ФСИ – в лучшем случае пять человек. Были амбиции в то время Сергея Скворцова, в принципе неплохого и невредного человека, но недостаточно яркого и самостоятельного, для того, чтобы добиться в те годы успеха. За этим ФСИ, в общем-то, никогда ничего особенного и не стояло, кроме каких-то на невысоком уровне связей в Черёмушкинском райкоме. Время менялось так быстро, что то, что казалось смелым и передовым в 87-м году, уже теряло всякую привлекательность через год. При кадровой чехарде старые райкомовские связи быстро теряли актуальность, и ФСИ был “кинут” его покровителями.
ОТДЕЛ ШАТАЛИНА (1986 г. - 1-я половина 1987 г.) Теперь мы возвращаемся немножко назад – к вещам, которые описал Николай Львов, когда говорил [в интервью Вам] о ЦЭМИ как о кузнице неформалов. П: На самом деле, такое название дал я. И даже не “кузница”, а “инкубатор”. Б: Но, действительно, так оно и было. Причём вся атмосфера ЦЭМИ ещё в доперестроечные годы во многом этому способствовала. Под одной крышей этого одного из самых больших институтов АН СССР уживались люди с разными взглядами, склонные к широким обобщениям. Приглашались для выступлений полуопальные деятели культуры. Атмосфера благодаря либеральному руководству института была весьма раскованная. Не случайно именно в ЦЭМИ надежно укрывались от идеологической опалы социологи Юрий Левада и Борис Грушин, мой первый завлаб в 77-м году. В ЦЭМИ было можно многое, что в других местах было нельзя. Но лично для меня Перестройка совпала с уходом из этого самого ЦЭМИ, где я более девяти лет проработал в Отделе проблем уровня жизни Римашевской, где на таганрогских исследованиях (это был такой многолетний срез социально-экономического состояния общества) обрел себя как социолог, защитил диссертацию. С какого-то момента, однако, захотелось большего – более активной и самостоятельной жизни, чем в отделе, где меня помнили ещё совсем юнцом. Тем более, перестроечные настроения подталкивали к переменам и в своей собственной жизни. Меня в конце 85-го года вызвал академик Александр Иванович Анчишкин, очень влиятельный экономист, только что ушедший из Госплана, который создавал новый институт (фактически ЦЭМИ просто четыре верхних этажа передавал в другой институт, то есть институт делился), и сказал: “Переходи к нам” (из отдела Римашевской). Я с ним не был знаком, но меня рекомендовали хорошо знакомые с Анчишкиным Андрей Фонотов (будущий зам. министра науки в правительстве Гайдара) и Андрей Нечаев (будущий министр экономики, а тогда председатель Совета молодых ученых ЦЭМИ). Анчишкин обещал мне дать при первой подходящей возможности должность старшего научного сотрудника. В те годы стать с.н.с. в системе Академии было не так просто, многие ученые, даже защитившись, до пятидесяти лет ходили в м.н.с., особенно если не состояли в КПСС. На какое-то время я ощутил поддержку со стороны руководства вновь созданного института, однако, как показали дальнейшие события, мне не следовало её переоценивать, так как ситуация оказалась намного сложнее. Так я волею обстоятельств в самых последних числах декабря 85-го года (а реально - летом 86-го, поскольку новый институт только формировался) оказался в отделе Станислава Шаталина, в институте, который сейчас называется “Институт народно-хозяйственного прогнозирования”, а тогда – ИЭПНТП (Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса). После недолгого пребывания в отделе Ефрема Майминаса я перешёл по собственной инициативе в отдел Станислава Сергеевича Шаталина. Сам Шаталин, самая значительная часть жизни которого была тоже связана с ЦЭМИ, в 76-м году был вынужден его покинуть и переместиться во ВНИИСИ (Институт системных исследований при ГКНТ), которым руководил зять Косыгина академик Гвишиани. Сейчас он возвращался со всем своим отделом, но взять с собой всех ему не удалось, часть его отдела осталась во ВНИИСИ. Шаталин, на кафедре которого в МГУ я учился, был моим кумиром, и я специально ходил к Анчишкину и просил, чтобы меня взяли именно в этот отдел, который должен был заниматься социальными разделами “Комплексной программы НТП и его последствий до …(такого-то) года”. Поход к Анчишкину оказался впоследствии серьезной ошибкой: руководство отдела Шаталина не простило мне, что я набился к ним через их голову, и всё последующее время относилось ко мне откровенно плохо, как к чужаку, которого им навязали, не спросясь их мнения. Среди тех, кто пришел с Шаталиным из ВНИИСИ, были его старые соратники Валерий Гребенников и Олег Пчелинцев (Гребенников был фактически правой рукой Станислав Сергеича и реально руководил его отделом), а также молодой, тогда 30-летний, Егор Тимурович Гайдар. Из старого ЦЭМИ в отделе кроме меня оказались Александр Николаевич Шохин и Юрий Александрович Левада. Егор Тимурович и Юрий Александрович получили на двоих маленький и очень тесный кабинетик. Правда, они (особенно Левада), ходить на работу не любили, и кабинетик чаще пустовал. Гайдару обещали свою лабораторию, но так и не дали, а также не дали возможности обсудить уже готовую докторскую (Анчишкин старался тянуть вперед молодых ученых из своего старого отдела). И сидел Егор такой довольно жалкий, несчастный и всем недовольный. К тому же он в это время расходился со своей первой семьей. Очень скоро (в самом начале 87-го года) он ушёл оттуда в журнал “Коммунист”, где замглавного был, насколько я помню, друг его семьи Отто Лацис, один из самых перестроечных журналистов, писавших на экономические темы. Журнал этот уже тогда был ультраперестроечный. Уйдя туда, он вскоре благополучно защитил в нашем институте докторскую - уже как не свой человек (к своим плохо относились), а как человек из журнала “Коммунист” (конечно, сделали ему всё как надо). С Гайдаром, несмотря на пребывание вместе на одном этаже института, я близко не сошелся - так, только здоровались при встрече. Несмотря на свою улыбчивость, он был человеком довольно высокомерным, замкнутым, очень самоуверенным, чужое мнение слушал только из вежливости, на всё у него уже были готовые ответы. Социология его интересовала мало. Он тогда очень любил покушать, и даже отправляясь в поход в туалет, брал с собой бублики и конфеты, над чем все в отделе смеялись. Пожалуй, лишь один из эпизодов общения моего с Гайдаром заслуживает отдельного разговора. Мама у меня - геолог, и у неё был в свое время такой студент - Виктор Леглер, который в первой половине 80-х занимался золотодобычей вместе с легендарным другом Высоцкого Вадимом Тумановым. В конце 86-го года на их артель “Печёра” начались большие наезды: ими по инициативе Коми обкома КПСС занялась прокуратура, на грани ареста оказались её основные деятели, а сама артель - на грани закрытия. Леглер тогда привёл меня к следователю Александру Нагорнюку, который вёл дело, но сам, скорее, симпатизировал артели, хотя и вынужден был ею заниматься. Мы обсуждали, что делать. Нагорнюк говорит: “Ну вот у вас Гайдар работает в отделе. Тем более, вы знаете, он уходит в “Коммунист”. Может быть, он как-то сможет помочь? Надо поговорить”. Я сказал: “Да-да, конечно, надо поговорить”. Это был декабрь 86-го года, и Гайдар ещё работал в ИЭПНТП, но уже было известно, что с 1 января 87-го года он уже работает в журнале “Коммунист”. То есть, как бы последние дни досиживал. И вот на эту самую встречу, которую мы организовали на нашем этаже по просьбе Леглера, (договорившись предварительно с Гайдаром, что он выслушает и примет участие в судьбе артели, - Гайдару это было интересно), пришёл рыжий молодой человек, который впоследствии оказался Анатолием Борисовичем Чубайсом. Произошёл исторический момент встречи двух будущих монстров. Потом они встречались в 87-м году уже в более тесной обстановке на Змеиной Горке под Питером, но впервые их контакт произошёл в связи с этим делом артели “Печёра”. Гайдар, действительно, помог – заступился и выручил. В журнале “Коммунист” были опубликованы материалы об артели “Печёра” в позитивном ключе - что это, так сказать, такой перестроечный эксперимент - и от них отлипли. П: Не напомните, в связи с чем в этой истории появился Чубайс? Б: Он появился как приятель и консультант моего знакомого геолога Виктора Леглера, тогда главного геолога артели “Печёра”. То есть Леглер его привёл с собой. П: Чубайс какое-то участие принимал в судьбе “Печёры”? Б: Безусловно, принимал. Конечно. Разумеется. Он, скорее всего, и с Тумановым был знаком. ...Летом 86-го года Шаталин тяжело заболел (рак легкого) и 5 августа 86-го года был прооперирован (у него удалили лёгкое), от чего так до самого конца своей жизни не оправился, хоть и прожил ещё больше десяти лет. Операция и химиотерапия основательно посадили сердце, он все время задыхался, продолжая при этом безостановочно курить. Даже будучи таким больным, Шаталин в эти оставшиеся ему годы пустился во все “политические тяжкие”: сначала стал советником Горбачёва, членом его Президентского совета, потом, вместе с Григорием Явлинским, соавтором программы “500 дней”, направленной как раз против экономической политики Горбачёва, соосновал вместе с Николаем Травкиным Демпартию и тут же бросил эту Демпартию, испугавшись в декабре 91-го позиции Травкина, выступившего против ратификации Беловежский соглашений. А ещё Фонд “Реформа”, а ещё финансовая группа “Шаталин и Ко.”, благополучно лопнувшая в скором времени... Зачем вся эта суета сует нужна была ему, состоявшемуся и всеми уважаемому ученому? Такой человек, такой характер, вечное стремление “не отстать от поезда” или “сесть не в тот вагон”, оборачивающееся легковесностью принятия решений. Осенью 86-го года в отделе своего имени он появлялся только по большим праздникам, а управляли делами отдела совсем другие люди. В отделе, фактически оставшемся без начальника, развернулась борьба между двумя его замами - Валерием Григорьевичем Гребенниковым и Александром Николаевичем Шохиным. (Именно Шохина хотел бы видеть своим преемником Шаталин, но тем непримиримее относился к нему и его людям Гребенников.) Моя же группа (“группа Бызова”), в которую входили Алла Гузанова и Игорь Минтусов, болталась такой неприкаянной в отделе Шаталина. Мы как бы и были, и нас как бы не было одновременно. Поскольку Минтусов – человек сегодня очень известный, к тому же в это время стал одним из лидеров цэмишного клуба “Перестройка”, то скажу пару слов и о нём. Я с ним не был особо знаком до этого, и в моей “группе” он оказался фактически благодаря казусу. Когда стало известно, что я из ЦЭМИ ухожу, мне стали навязывать людей. Вот одним из тех, кого мне стали упорно навязывать, был Минтусов, который до этого работал в отделе Бориса Суворова (“Уходишь? Ну ладно. Так и быть - уходи. Только возьми с собой этого придурка Минтусова. Потому что уже достал всех! Лоботряс, полный раздолбай, на работу не ходит, ничего не делает. Мы его хотели давно сократить, но это – целая история. Лучше забери его с собой.”). Ну ладно. Мне тоже было выгодно присутствие “группы”. Потому что я не один иду, а с какой-то группой. В общем, навязали мне Минтусова, можно сказать, почти в нагрузку. Игорь во времена ЦЭМИ вёл такой светский, ночной, образ жизни, и когда при андроповском закручивании гаек стали заставлять на работу каждый день ходить, то он демонстративно приходил к девяти утра со спальным мешком и ложился спать. Спал до вечера, а в шесть вылезал из спального мешка и шёл опять по своим ночным делам. Минтусов проявил интерес к социологии, в отличие от экономики, в которой скучал. Заседал в каких-то комиссиях райкома комсомола (атеистических, кажется). Но впрячь его в какую-то регулярную деятельность было сложно, тем более, что и я остался практически без определенного дела. Просто поразительно как, однако, меняются люди. Этот маргинал Игорь Минтусов впоследствии (да что впоследствии: уже к концу 87-го года он стал организатором социологической службы “Московских новостей”) проявил себя как человек предельно организованный, целеустремленный, очень жесткий руководитель, блестящий переговорщик, бизнесмен. Он стал пионером российской политтехнологии в 90-е годы, добился и известности, и материального достатка. Вот такой потенциал раскрылся в человеке, к которому мало кто всерьез относился. Игорь – очень западный человек по своей ментальности, в конце 80-х связался с католическими европейскими кругами, постоянно и подолгу бывал во Франции и в своей профессиональной деятельности стремился привнести в Россию западные PR-технологии. Его детище “Никколо М” часто называли “Макдоналдсом” от политтехнологии, в котором основу меню составляют готовые и лишь разогретые блюда по западным рецептам. Вершиной его политтехнологической карьеры стала работа “придворного” имеджмейкера при Ельцине, довольно иронично описанная Александром Коржаковым в его книге. ...Как я только что рассказал, в отделе Шаталина развернулась борьба за наследие Станислава Сергеевича, ещё живого, но, фактически, недееспособного. Этот острый конфликт между двумя замами - Гребенниковым и Шохиным – закончился полным поражением Шохина и шохинцев, которых всех, в конечном счёте, просто выгнали кого куда. Но некоторых выгнали с повышением; сам Александр Николаевич стал советником министра иностранных дел Шеварднадзе по вопросам экономики (по протекции Абела Аганбегяна). Тогда это был высокий номенклатурный пост, и вскоре Шохин, как и Гайдар, защитил докторскую в том же нашем институте. Все эти события пришлись на лето 87-го года. Что ещё немаловажно, вечером 24 июня скоропостижно скончался академик Анчишкин, директором стал Яременко, с которым у того же Шохина отношения были испорчены. Смерть Анчишкина как бы закрыла моральные обязательства, которые многие из нас перед ним имели, и открыла нам путь к уходу. Именно Александр Шохин через Бориса Ракитского, вице-президента Советской социологической ассоциации, рекомендовал меня Татьяне Заславской в качестве главного ученого секретаря этой организации, решающий разговор и первое знакомство с Татьяной Ивановной у неё на квартире произошло 18 августа 87-го года. Но это уже материал для следующего раздела. Что я могу вспомнить из личного общения с Шохиным – видным деятелем постперестроечной России? Где-то чуть более полугода я пробыл в составе его лаборатории. Шохин был очень организованный и работоспособный человек, неглупый, даже очень, но… как-то без изюминки, без самобытного таланта. Он много писал, но довольно банального материала. Хотя он легко справлялся со всем, он не был человеком науки, она его не сильно интересовала, он был по сути карьерно ориентированным чиновником, бизнесменом, где и проявил себя впоследствии. Ещё в период работы в ЦЭМИ, глядя на карьерную ловкость Шохина, кое-кто говорил: ну, у него наверное, лапа наверху, вот вроде тёща - аппаратчица. В декабре 86-го года Шохин отмечал свой некруглый юбилей – 35 лет. Тогда ещё вовсю шла антиалкогольная кампания, вино достать было трудно. Шохин приносит нам торт и бутылку самогона. Его спрашивают: «Александр Николаевич, откуда самогон взял?» - «Да вот, - говорит, - у меня же тёща – аппаратчица, целыми днями на самогонном аппарате сидит». Но это, конечно, была шутка такая. Когда я был “шохинцем”, сотрудником его лаборатории, руководство отдела во главе с Гребенниковым просто делало вид, что нас нет; мы были “врагами” - просто потому, что мы были из шохинского лагеря и считались “не своими”. Потом нас всех разогнали – кого куда. Минтусова впоследствии вообще выгнали. Я тогда уже работал в Советской социологической ассоциации и, конечно, на какое-то время взял его к себе в ХНИЦ, хотя там уже подо мной что называется “земля горела”. Гайдара, как я уже говорил, отправили в журнал “Коммунист”. Разогнали значительную часть лаборатории Олега Пчелинцева, где находили пристанище тоже довольно нестандартные люди. Один из них – Сергей Чесноков – математик, бард, известный неформал, автор детерминационного анализа. Он вёл себя достаточно вызывающе, не вписывался, что называется. Это тоже очень интересный человек, пришедший в социологию (как математик) ещё в 60-ые через “Таганрог-1” (проект Бориса Грушина), потом бросивший академическую карьеру и работавший пожарником в Театре на Таганке, писавший письма в защиту Сахарова... Моё общение с ним не было безоблачным, и о нём я подробно говорить не буду; он сам рассказал о себе всё в беседе с покойным Батыгиным, и это всё доступно в интернете. (Продолжение следует) Беседовал Алексей Пятковский, апрель-май 2009 г.
[1] Обвинения в близости к “Памяти” ведущих фигур Московского отделения ВООПиК впервые прозвучали от журналистки Е. Лосото в ее публикации “В беспамятстве” в “Комсомолке” от 21 мая 1987 г. Именно там указывалось, что Виноградов и Журин – идеологи “Памяти”. Эта статья, как и мое последующее письмо в “Огонек”, вызвала очень острую реакцию. Через несколько дней после публикации, в Политехническом музее состоялось выступление журналистки, на которое в полном составе пришел весь актив васильевской “Памяти”. Статья Е. Лосото была написана с ортодоксальных советских позиций, что сделало ее уязвимой для критики. Часть 2. Клуб "Перестройка" >>> Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



