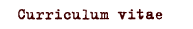
 |
|
"...мы с ним познакомились на Староконном рынке, где собирались книжники, те, кто продавал книги и те, кто их покупал, вообще ими интересовался. Там, на Староконке, кстати сказать, можно было приобрести и запрещенную литературу. 100 рублей стоил тот самый «Гулаг», который стоил Игрунову свободы".  Херсонский: Мне сегодня трудно сказать, когда я впервые увидел Вячека, но помню, что мы с ним познакомились на Староконном рынке, где собирались книжники, те, кто продавал книги и те, кто их покупал, вообще ими интересовался. Там, на Староконке, кстати сказать, можно было приобрести и запрещенную литературу. 100 рублей стоил тот самый «Гулаг», который стоил Игрунову свободы. Там мы и познакомились. Мне кажется, к этому имел отношение Миша Биссендорф, наш общий знакомый. Естественно, я уже знал в то время, что Игрунов библиотекарь – он был известен под этой кличкой, и ему кто-то что-то обо мне говорил – таким образом, заочное знакомство предшествовало личному. Я довольно быстро включился в чтение этой литературы. Мне кажется, что первые какие-то самиздатовские вещи мы делали еще до знакомства с ним, или сразу после этого делал покойный Миша Мельников… Сначала мы делали то же «Собачье сердце» Булгакова, потом следующее, что я помню - это «Доктор Живаго». Эта книга уже делалась в лаборатории Чернова, в большей степени с помощью связей Шурика Бирштейна, Эдика Злотникова2… Там же изготовлялся Мандельштам, американский тогда 2-х-томник… Тогда издали и 3 том, но он до нас так и не дошел. Потом у меня была книга тамиздатовская «Доктора Живаго», 4-й том собрания сочинений Пастернака, она тоже копировалась, и в общем и целом все это циркулировало в нашем достаточно узком кругу. Естественно, мы собирались и разговаривали – это может быть важной частью, не менее важной, чем просто распространение и чтение книжек. Я должен сказать, что во всем этом для нас - мы были очень молодыми – был, конечно, явно игровой момент – то есть, нам очень нравилось, что мы читаем запрещенную литературу. Каждый день с такой книжкой под подушкой, несомненно, придавал нам некоторую значительность в собственных глазах, а страх перед КГБ это еще чуть-чуть усугублял. Мы как бы немножко раззодоривались – до поры, конечно, это было, до времени. Шварц: А как Вы считаете, оказали такие кружки какое-то влияние на последующее развитие культуры, на то, что произошло в стране позже? Херсонский: Вы знаете, я думаю, что это оказало влияние на какое-то количество людей, не слишком значительное в масштабах страны. Более того, я думаю, что большинство этих людей в осколках этой страны не проживает. И я убежден, что демократическое развитие в этой стране не было связано с деятельностью диссидентов. Я вспоминая, что Боннер говорила, что все наши демократы, имея в виду Перестройку, это один секретарь Обкома, а второй генерал КГБ. Подразумевая, конечно, Калугина и Ельцина. И действительно, все герои того времени, все либералы – это действительно коммунистическая номенклатура, по большому счету. И мне кажется, что то, что произошло – это следствие каких-то внутренних процессов в этом слое общества. Но вот что интересно… Был один момент, я не знаю, вспоминает ли о нем сам Вячек, когда у него была такая идея, что надо перевоспитать КГБ, вернее, объяснить им, как нужно. Честно говоря, для некоторых из его друзей, в том числе и для меня, это составляло личную проблему. Проблема состояла в том, что он говорил как любой правозащитник, что мы ничего плохого не делаем, мы можем об этом говорить. Но когда сразу после этого тебя вызывают, и допрашивают, и говорят, вот что Вы говорили там-то и там-то и тогда-то и тогда-то… Это несколько портит настроение людям, которые, в общем-то, живут более или менее адаптированной жизнью, то есть, работают врачами, учителями и вообще не любят, когда органы с ними разговаривают. Но, тем не менее, Вячека в этом смысле изменить было нельзя. Он разговаривал, говорил совершенно открыто, даже понимая, что в комнате может быть жучок, в то время как мы предпочитали Эзопов язык и иногда выходили просто на свежий воздух, когда нужно было обсудить какие-то сложные вещи. И вот, так сказать, особенно это ярко проявилось после его освобождения из психиатрической больницы, когда над ним был колпак. И, фактически, человек, который начинал с ним разговаривать, попадал в орбиту органов. И, может быть, это было и хорошо для органов – они знакомились с большим количеством умных и симпатичных молодых людей, и это соответствовало целям их работы. И я знаю, что фактически разногласия очень тяжелые между приемником Вячека, Петей Бутовым3, который получил свои пять лет позднее, были во многом на этом основаны. У меня же были просто смешные вещи, связанные с Вячеком. Я знал прекрасно, что если я что-то Вячеку скажу важное, то меня вызовут на допрос или дадут понять через администрацию больницы буквально не позднее, чем через неделю. И вот меня вызывает ныне покойный старший врач больницы Джон Иосифович Майер, и говорит: «Борис Григорьевич, я знаю, что Вячека будут брать на праздники, должны брать на праздники. И я не хочу, чтобы его к нам привозили. Вы предупредите его, чтобы он пришел с женой в диспансер сейчас и сказал, что он чувствует себя хорошо, и чтобы жена это подтвердила». Я даже сейчас копирую немножко голос Майера… «И чтобы она это подтвердила, и тогда пусть проследят, чтобы это записали в карточку». Интересно, что принудительная госпитализация была как бы относительно незаконна, то есть, ее нужно было как-то обосновать, например, тем, что человек не приходит в диспансер… А если была такая запись, как ни странно, даже тогда это составляло, ну не абсолютную проблему для органов, но относительную. Намечалась так называемая праздничная госпитализация. Я иду на Новый рынок, где в то время работала Валя, и говорю: «Вот, Валя, у меня такая информация. Только я тебя прошу, сделай это, но не говори Вячеку о том, почему ты это делаешь, какая у тебя информация. Просто скажи, что это важно, чтобы его не положили на праздники. Вот у меня такая просьба». Через четыре дня меня вызывает Майер и говорит: «Борис Григорьевич, я же Вас просил, ну почему Вы на мою голову навлекаете неприятности!» Разумеется, она сказала, через кого пришла эта информация, Вячеку, Вячек это сказал кому-то еще. Я убежден, что он никому это не сказал официально, но просто или жучок был, или был человек рядом, который был стукачом. Это ничем, конечно, плохим не кончилось ни для Маейра, ни для меня. И для Вячека тоже, конечно, потому что его не положили, но вот такие вот детали были. Что я хочу сказать, ради чего я это начал – что вся идея Вячека о перевоспитании КГБ – она нам очень не нравилась. Но эта-то идея и оказалась, по сути, правильная, потому что во многом демократические реформы пошли при активном содействии органов, и тут ничего не скажешь. Ведь в России просто органы в лице Путина и находятся у власти, по большому счету, а это еще то поколение, которое было слугами Советского режима. Как я вспоминаю, одним из ключевых моментов демократических реформ был разговор Шеварнадзе и Горбачева, в котором Шеварнадзе объяснял Горбачеву, что жить так нельзя. Об этом вспоминают и тот, и другой. А кто же такой был Шеварнадзе? Это был человек, который пришел через КГБ. До того, как он стал Первым секретарем ЦК Грузии, он был начальником Грузинского КГБ. И, кстати, он стоит у власти и теперь. А Алиев откуда взялся? Тоже из органов. Короче говоря, получилось действительно так, что наиболее осведомленным ведомством оказалось вот это самое трансформировавшееся КГБ, явно уже не сталинского типа, но, конечно, и совершенно не демократического – и довольно-таки отвратительная организация. И все-таки был Марчук украинский – ведь он же возил цветы Ратушинской, когда ее освобождали. Его же никто не заставлял, а он был уже генералом, или полковником, КГБ. Значит все-таки в этом человеке что-то такое было. Я сегодня вспоминаю свои беседы некоторые с гэбэшниками, которые меня пытались вразумить, с двойными ощущениями. Я по-прежнему к ним отношусь очень плохо и понимаю, что они ничего хорошего мне не сделали, пытались сломать, потом не давали долгое время защитить диссертацию, в общем, практически заблокировали мне на много лет профессиональный рост, так что я вроде бы выбился уже скорее по недоразумению… Еще когда мне было сорок лет, ни о какой академической карьере речи не было. Но все-таки я могу вспомнить следующее. Вот был такой наиболее ненавистный мне человек, высокий профессионал, Лев Валерьевич Куляричев. Его недобрым словом обычно вспоминает Бутов и вообще все, кто проходил через него, потому что это был очень умный, жесткий и профессиональный следователь, который жестко ловил людей на противоречиях, который жестко умел раскрутить. Вот меня он раскручивал так: говорил, что почему Вы вообще против нас, Вы психиатр, Вы ведь тоже ограничиваете свободу Ваших подопечных, у Вас есть палаты более свободные, а есть поднадзорные, где сидит все время санитар. Вы скажете мне, что это больные люди, а Вы думаете, что наш народ здоров, говорит он, Вы думаете, что его можно выпустить сейчас? Вот увидите, что если будет по-вашему, тогда Новочеркасск, о котором Вы так говорите сейчас… «Я не говорю о Новочеркасске!», - возражаю я. Говорите, говорит он, там-то и там-то Вы говорили о Новочеркасске в присутствии того-то и того-то… Так вот, этот Новочеркасск Вам покажется детским лепетом. Но теперь я вспоминаю и события в Вильнюсе, и события в Нагорном Карабахе, и события в Тбилиси, и события в Абхазии, и события в Приднестровье, и события в Москве в 93-м году, когда демократия побеждала, как мои приятели говорили мне, поздравляя меня с победой демократии в Москве с помощью танков, который расстреливал, в общем-то, демократический парламент… Действительно, по сравнению с жертвами Новочеркасска, это значительно больше, по крайне мере, количественно. И последствия того, что произошло, действительно, неоднозначны. И сказать, что Лев Валерьевич был на 100 % неправ, к великому сожалению для себя, я не могу. То есть, какие-то вещи были явно недооценены, все как всегда было сделано не так, наспех. Я никогда не испытывал никаких симпатий ни к карательным органам, ни к коммунистам. Вот сейчас мне смешно, что некоторые наши общие знакомые, которые были глубоко вовлечены в диссидентское движение, сегодня сочувствуют коммунистам. И это не секрет. Я – не сочувствую, но поддерживать правящую администрацию и называть ее демократической я не могу. Шварц: Вот Вы заговорили о Джункине Иосифовиче Майере, и мне вспомнилось, как Игрунов рассказывал о своем аресте, о том, как это произошло, и он мне сказал такую вещь, что Вы, по-моему, предрекли ему, что его посадят именно в сумасшедший дом. Это так? Херсонский: Конечно. Дело в том, что в то время это было стопроцентной тактикой, то есть, они не хотели доводить дело до процесса, на котором подсудимый будет говорить… Это ведь не секрет, все это знали, знал это и Вячек. Беда состояла в том, что любой человек, творческий, неординарный в те времена мог легко проходить как вялотекущий шизофреник. Сегодня вообще нет такой графы в международной классификации болезней – это называется шизотипическое личностное расстройство, пограничное личностное расстройство, но слово «шизофрения» не употребляют. Ну и Вячек, абсолютно неординарный молодой человек – я думаю, всем ясно, что он не достиг бы таких успехов, если был бы ординарным человеком. Я думаю, что если бы я попал в ту же молотилку, я тоже был бы признан невменяемым… А что – религиозные увлечения, философские искания, не вполне обычный внешний вид – борода – еще и склонность к витиеватым рассуждениям, какие Вы сейчас наблюдаете, еще и соскользнул с одной темы, вдруг перешел на другую – диагноз. И конечно, меня, скорее, удивило не то, что Вячек попал по этой линии, меня скорее удивило, что Петя Бутов не попал – но просто изменилась политика к тому моменту, тогда решили, что лучше сажать в лагеря. Фактически врачи выполняли социальный заказ. Единственно, что надо сказать в пользу Одесской психиатрической больницы – в ней лечили диссидентов по приговору суда, но ни один такой человек не был признан невменяемым в стенах больницы. То есть, опять-таки, в этом есть какая-то доля лицемерия – их отправляли в Институт Сербского, а уж там-то, понятно, пеклись пироги быстро. Джон – мы все его звали Джон Иосифович, никто его не называл по паспортному имени – считал, что пусть это будет, но пусть это не будет сделано мной. Это ведь тоже важный момент – я и моя больница пусть будет чиста. Поэтому он делал так: когда возникал такой случай, он всегда говорил противоположное тому, что хотела сказать вся комиссия. А, как Вы знаете, решались эти вещи с помощью консенсуса – если есть хоть одно разногласие, испытуемого отправляли на вышестоящую экспертизу в Институт Сербского. Вот таким образом, нам, больнице, удалось избежать слишком большого позора. Кстати, я думаю, что если Вячек рассказывал, то он не мог не сказать, что в больнице к нему относились нормально. Пытались ему пару раз дать таблеточки, парторг больницы, Лидия Георгиевна, тоже ныне покойная, Чернышева, но быстро от этой идеи отреклась. Буквально пару дней – кстати, он нейролептики очень плохо переносил, у него выкручивало ноги, поэтому пытались его лечить не больше нескольких дней. Кроме того, об этом я никогда не писал и даже Вячеку не рассказал, что не задолго до смерти Лидия Георгиевна Чернышева – я с ней виделся и с ней разговаривал – что вот, она теперь видит, что Игрунов и я были правы. Это уже было после распада Советского Союза. Она ведь была очень верующей коммунисткой. Она с симпатией относилась к Вячеку как к человеку, но, разумеется, совершенно не одобряла ни его, ни моих убеждений, о которых она знала. Она была порядочным человеком, с ней можно было об этом говорить. Но в конечном итоге, ее проняло и она начала понимать, что, скажем, голодомор – это уже не бред, а это реальность. А можно было прежде прочитать «высказывает бредовые идеи якобы о голодоморе»… Шварц: Вы не могли бы чуть поподробнее рассказать об этом конфликте с Бутовым, в чем было дело, что из себя представлял Петя Бутов. Херсонский: Мне трудно сказать, в чем была суть этого конфликта, потому что Петя никогда об этом четко не говорил, но у меня создавалось впечатление, что Петя некоторым образом узурпировал вячековскую библиотеку. Я не знаю, так ли говорил Вячек… И Вячек, видимо, требовал эту библиотеку назад частично, а Петя не хотел этого делать, потому что понимал, что Вячек под колпаком. Вот мне так казалось, но это была моя именно версия того, что происходит. Я думаю, что если это так, то Бутов был прав… Вячек, конечно, тоже продолжал этим заниматься, но Петя полагал, что это бы значило погубить эту библиотеку. Она все равно погибла, настал черед, добрались и до Пети. Петя был достаточно милый, на мой взгляд человек, вдруг, неожиданно, оказавшийся уже после освобождения с такой какой-то национальной подкладкой, не чуждый антисемитизма, чего я совершенно не чувствовал в нем в тот период. Я считал, что Петя вполне демократический человек, несомненно тоже пишущий – у него были неплохие, как и у Вячека, стихи. И Петя написал повесть «Под властью маленьких людей». Я, к сожалению, ничего не знаю о судьбе этой рукописи. Я ее прочел, это фактически его кэгэбэшный опыт. Написана книга неплохо, и вот потом, позднее, я занимался по линии «Мемориала» публикацией такого рода книг, но найти уже эту рукопись я не мог. Петя был освобожден тайно… Он приехал полный радужных надежд, никто его на работу не брал, реабилитировать его отказывались… А Вячек же так и не реабилитирован, Вы знаете! Шварц: Да, диагноз так и не был снят. Херсонский: Дело в том, что это и не нужно было, потому что такого диагноза нет. Но требовалось формальное его заявление. Если бы он написал формальное заявление с просьбой его реабилитировать, то это немедленно было бы сделано… Или его сестра могла написать. Но он не хочет этого делать. Это старинная диссидентская традиция: «Я репрессировать меня не просил, почему я должен просить меня реабилитировать?» Да, так вот, Петя конечно, конечно, мыкался, быт у него был тяжелый, трое детей. Я его тогда устроил в библиотеку фонда Гааза, как раз такое учреждение открылось, и это было для него хоть какой-то возможностью пересидеть. И он уехал, в конце концов, в Германию, оборвав связи со всеми… Более того, он даже никак не позаботился о своей квартире, которая была в его собственности. Впрочем, там живет сейчас сын его приятеля, товарища по несчастью, в каком-то смысле, - Лёни Заславского… Леня – это тоже был человек, который играл огромную роль в движении, библиотечном деле того периода – то есть, фактически, это был человек, который носил авоськи с книгами с места на место, брал рубль в неделю за книгу, что шло на пополнение библиотеки. В общем и целом, он одаренный человек, сейчас известный в городе журналист. Шварц: В конце 70-х – начале 80-х диссидентская активность как-то изменилась по сравнению с серединой 70-х? Херсонский: Я бы сказал, что она стала более активной и более деловой. Во всяком случае, чуть-чуть больше стало конспиративности, но тоже не у всех. Например, семья Черновых тогда – это была дыра, через которую информация утекала моментально. Вот смешная вещь. Разводится муж с женой. У жены остается в руках журнал «Метрополь», небезызвестный. Ничего в нем криминального, в общем, нет, даже с той точки зрения. И вот она говорит: «Если ты ко мне не вернешься, я отнесу это в КГБ». Он говорит: «Нет, дорогая, не надо, не относи в КГБ, но я к тебе не приду». Об этом знают все, об этой ситуации, и органы тоже. Знают, что там лежит «Метрополь», который эта женщина хочет к ним принести, но пока почему-то не несет. Мой коллега едет убеждать ее, чтобы она не носила это в КГБ. Об этом тоже знают органы, но только путают его и меня, потому что мы коллеги, и уже вызывают меня по этому поводу, но только никто при этом не трогает ни его, ни ее, ни этот альманах. По-моему, этот альманах был уже после 80-х. То есть, это был уже другой период, а детский сад точно такой же, как и в старые времена.
Запись и редакция Шварц Е.С. Примечания:1. Херсонский Борис Григорьевич – психиатр, поэт, писатель и друг Вячеслава Игрунова с диссидентских времен. См. он нем также рассказ В. Игрунова "Об аресте и заключении" и здесь. 2. Александр Бирштейн (Южный) - одесский писатель и поэт. См. о нем также здесь. 3. Петр Бутов - см. о нем также рассказы "О 82-м годе", "Об аресте и заключении" и в книге Людмилы Алексеевой "История инакомыслия в СССР" (Глава "Хельсинкский период": "...В 1982 г. арестовали физика Петра Бутова. Этому аресту предшествовали обыски, начиная с лета 1981 г. — у самого Бутова и его знакомых. Изъяли "Хроники текущих событий", "Хроники Литовской католической церкви", фотокопии многих произведений самиздата и тамиздата. На допросах выяснилось, что следователи хорошо знают содержание разговоров в комнате, где работал Бутов. Видимо, там был установлен подслушивающий аппарат. После ареста Бутова жене его объяснили, что причина ареста — отказ выдать "библиотеку и архив — пленки с антисоветской литературой", и назвать человека, делавшего фотокопии. Бутов был осужден на 5 лет лагеря строгого режима и 2 года ссылки. Библиотека, видимо, продолжает действовать").
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
||