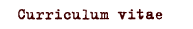
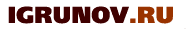 |
|
Перейти в раздел "Диссидентство" >>> Воспоминания об одесских диссидентахЧасть 5Диссиденты
1 Я хотел себя ограничить воспоминаниями, описанием событий. Но все же остается вопрос – кто же такие были диссиденты? Не следует забывать, что во многом представление о диссидентах было сформировано средствами массовой информации. С другой стороны, СМИ Запада не обладали достаточной информацией для того, чтобы объяснить, кто же такие есть диссиденты. Да это и не было их целью. Для многих диссиденты обладали притягательной силой потому, что их ругали коммунисты. Диссиденты имели разные убеждения и мировоззрение. Они не образовывали единый фронт. Это было небольшое количество людей, которые шли «не в ногу». Если я говорю о диссидентах, то говорю о тех, кого я знал лично или о тех, кто мне был близок по мировоззрению. Мои знакомые, конечно, были идеалисты. Они, как и я, конечно, сильно недооценивали проблемы развития нашей страны. С другой стороны, правящая группа старалась нас лишить информации. Диссиденты волей–неволей сталкивались с ситемой судопроизводства. Она считалась очень несовершенной по сравнению с системами в Европе и в Америке. По своему опыту в Германии могу сказать, что большого отличия нет. Суды часто судят и здесь не очень обращая внимания на факты. Наоборот, даже игнорируют очевидные факты, особенно в процессах частных лиц против государственных организаций. В социальном суде у судей большие возможности манипулировать фактами и даже принимать решения, которые не согласуются с принятыми нормами, то есть «развивать право». Сображения за этим стоят по-видимому такие – если все будут получать социальные выплаты в соответствии с законодательством, то никаких денег не хватит. Разница, конечно, есть: одно дело, тебя в лагерь сажают за антисоветскую агитацию и пропаганду, другое – просто ущемляют в деньгах. Но в обоих случаях твои права просто игнорируют. Боюсь, что разница не такая уж и большая.
2 Из того, что КГБ боролось с диссидентами, еще не следует, что и диссиденты боролись с КГБ. Государство политизировало любую критику системы. Государство рассматривало критику системы как преступление. В официальных газетах многие элементы системы подвергались критике. Иногда очень жесткой. Однако идеологические вопросы никто не осмеливался затрагивать. История была написана. В этой истории мнгие исторические факты просто не упоминались. Но другой истории не должно было быть. Многие художественные произведения не печатались. Это имело исторические корни. Но шило в мешке не утаишь. И нас не интересовало, почему эти произведения не печатались, поскольку эти причины были от нас далеки. Во времена всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, в 1957 году, приехало много молодежи со всего мира, и многие привезли с собой тамиздат. Границы страны начали открываться. Возросли внешние контакты. На этой волне окреп и Самиздат. Распространение самиздата КГБ пыталось предотвратить, арестовывали «самиздатчиков». Так образовался круг диссидентов - результат преследования со стороны КГБ. Диссиденты пытались создать систему своей безопасности для того, чтобы ослабить возможности КГБ в борьбе против диссидентов. Что могли диссиденты сделать? Прежде всего, распространять информацию о политических преследованиях и о попытках КГБ собирать информацию о людях. Эту роль играла, прежде всего, «Хроника текущих событий». Так возник политический самиздат нового времени. В наши времена Остап Бендер мог бы сказать: если в стране есть самиздат, то должны быть люди, у которых его много. В самиздате ходили самые разнообразные материалы. Многое из того, что я встречал, я бы не написал и не подписал. Но в том-то и заключается свобода, что дискуссю можно вести на основании существующих текстов, на основании того, что ты знаешь, о чем говоришь. При нормальных условиях автор или его единомышленники должны сами заботиться о распространении текста. Но мы не жили в нормальных условиях. Мы заботились в первую очередь о том, чтобы создать эти нормальные условия. Здесь проходила граница между диссентом и политикой. На этом пути столкновение с КГБ было неизбежно. С самого начала, после того как я перенял библиотеку, я был уверен, что меня из-за этого арестуют. Я находил это противоестественным. Не хотел в это верить. Я это просто знал. Конечно, арестовали. Это было безумие власти. Кто-то должен был это безумие остановить. Другого выхода не было, кроме как встать на пути и посмотреть, что из этого выйдет. КГБ имело много функций. Борьба с диссидентами не была основной функцией КГБ в наше время. Однако как раз в этой борьбе появлялись люди из комитета на свет. С другой стороны, мы, те, кого я знаю, не были «врагами советской власти». Это примитивное представление о диссидентах необходимо было КГБ, чтобы оправдать свои действия. Конечно, в диссенте существовали отголоски политической борьбы 30 годов и отголоски политических репрессий. Для нашего поколения это была очень интересная тема. Но нас интересовало больше настоящее. КГБ непременно настаивало на том, что тот или иной человек, если он интересуется «запрещенными» темами или если он критикует власть, то он находится под влиянием средств массовой информации Запада. Это был очевидный маневр для запугивания критиков. Мы жили на свой лад, но внутри того же государства. Но кому и как это объяснишь? Мне однажды в 1984 году (я уже сидел больше двух лет) сказал майор Гаврош: - Да ведь Вы же антисоветчик! - Конечно – ответил я. В таких условиях я и не мог ответить иначе. Хотя при других обстоятельствах я бы попытался этот вопрос прояснить. Позиция КГБ была ясна. Диссидент должен сидеть в тюрьме. Большинство людей, если это даже их и возмущало, мирились с этой печальной реальностью. По существу борьба с диссидентами отражала страхи верхушки партаппарата. Если внешне партия и выглядела монолитной, то внутри ее, в верхних этажах власти, происходила постоянно драматическая политическая борьба. Непосредственно в Самиздате она мало отражалась. Мы искали правду. Но кой для кого она должна была быть опасна. 3 Мы все были в плену нашей истории. Мы все ее достаточно плохо знали. Что знало КГБ? После войны на Запад попало большое количество людей. Что бы там удержаться, они должны были свой переход или невозвращение оправдать. Они были или выдавали себя за «антисоветчиков», врагов КПСС, Сталина и т.д. Союз пережил тяжелую войну, но война не закончилась в 1945. Рузвельт еще собирался признавть СССР демократической державой, но к власти пришел Трумэн, и Америка стала делить мир на «своих» и «чужих», поскольку верила в свое военное превосходство. Союз стал «чужим». В Союз, между прочим, после войны было заслано больше полутысячи диверсантов, бывших наших сограждан. Так что «шпиономания» и недоверие к инакомыслию имело реальные основания. Но в наше время мы многого не знали и коммунисты многое не рассказывали. То, что систему необходимо реформировать, понимали не только диссиденты. Самиздат возник как дополнение к существующей системе информации. Собственно самиздатовские традиции существовали испокон веков. Реально на пути преобразований во времена Хрущева находились люди, которые боялись ответственности за свои действия во времена культа личности, то есть, во времена, когда страна перешла на особое положение, не обьявляя это, в результате надвигающейся войны. Собственно Главлит защищал интересы элиты, которая уже в наше время отошла от власти и во времена Горбачева потеряла влияние окончательно уже вследствии постарения. Поскольку те, кто в основном имел страх перед публикацией таких произведений как «Архипелаг ГУЛаг» умерли или не имели влияния, произошла последняя стадия преобразований Хрущева – снятие цензуры. Но сделал это уже Горбачев. Другая причина перестройки в это время заключалась в том, что «теневая экономика», которая во времена Хрущева только начала расцветать, уже вышла из-под контроля партаппарата. Особое положение не было обьявлено и не было снято через декрет. Просто была постепенно реконструирована ситема контроля за выполнением условий военного времени. Прежде всего, это стало возможным в силу того, что была создана военная техника, которая гарантировала безопасность государства. КГБ (ЧК.- ГПУ - ...) в результате в несколько политических шагов потеряло большую часть своей власти и стало всего лишь КГБ при Совете Министров. Зато роль прокуратуры возросла. Уже при первом аресте Амальрика за «тунеядство» можно увидеть слабость КГБ. Амальрик был осужден судом под давлением КГБ, но впоследствии прокуратура добилась снятия судимости. В случае Тымчука КГБ оказалось так же не способно довести свой замысел до конца. Прокуратура была практически бессильна при обвинениях по «чисто» политическим обвинениям и при обвинениях за национализм. В первом случае, скорее всего, потому, что диссидентам явно или скрыто приписывали связи с заграницей (или даже связи с иностранными разведками), во втором случае за развитием национализма виделась угроза гражданской войны. Кроме того, государство нуждалось тогда в определенных территориях для того, чтобы выдержать внешнюю агрессию и не могло тогда позволить проявление сепаратизма. Диссиденты эти тенденции недоценивали. Вопреки многим фактам считалось, что Союз таит в себе потенциальную агрессию, а Америка только защищается. Страх реконструкции «культа личности» был поводом для беспокойства для многих диссидентов. Даже приход к власти таких людей как президент Никсон и президент Рейган, прсто стукачей, которые начали свою карьеру во времена маккартизма, мало повлияли на мое представление о демократических основах США, которые явно или неявно противоставлялись советскому режиму. Правда, приход к власти Буша (старшего) меня уже сильно насторожил, но в те времена было не до анализа ситуации. Приход к власти Путина является все-таки реакцией на политическую тенденцию, которую сотворили американцы. Те, кто реально сталкивался с КГБ, то есть диссиденты, могли видеть, что КГБ проводит определенную политику, а не стремиться непременно покарать. То есть уже была открыта возможность для проведения оппозиционной политики. Все это круто изменилось после преобразования КГБ при Совете Министров в КГБ СССР (перемена, которую мало кто заметил) и начала войны в Афганистане. Болезни диссента видны сейчас в политике прибалтийских стран. Там говорят эмоции, которые я вполне могу понять. Но уже пора бы начать заниматься политикой и искать свое место в современном мире, чтобы гарантировать независимость своих стран и в будущем. Для них никто не станет таскать каштаны из огня в кризисных ситуациях, а то, что мир уверенно идет к большому кризису – очевидно. 4 То, что диссиденты используются западной пропагандой, было для всех ясно. Но с другой стороны, это была защита от безвестности, то есть защита от произвола. Это КГБ уже рассматривало как борьбу против себя. Это был почти замкнутый круг. Сам я никогда не обращался к западным корреспонднтам, но если бы это было необходимо для защиты кого-либо, я бы это сделал. Ситуация была противоречивая. Особенно из-за того, что КГБ всегда обьявляло диссидентов отщепенцами. Это было символическое лишение гражданских прав. Диссидент – так нечего с ним церемониться. Но и Запад часто спекулировал на этом. Сначала я, как и многие, довольно наивно полагал, что Запад поддерживает диссидентов из идеальных соображений. Это оказалось, конечно, неверным предположением. Это было довольно сложно, оказаться между двух фронтов. В этих условиях и возникла, пока теоретическая, установка поиска компромисса. Это была позиция не только Игрунова, но он это просто объявил как позицию и, наверное, первый. Как практически провести эту линию, никто нам не мог посоветовать. Вообще, каждое решение мог принять каждый сам за себя. Судей нам нет и быть не могло. Мы обладали уникальным опытом, который мало кто захотел приобрести, неважно по каким причинам. Мы искали истину и те, кто это не делал, кто не прошел определенный путь, не могут судить о диссидентах верно. Критики диссидентов не могут сказать ничего нового, что уже не сказали бы о них люди из КГБ. КГБ же всегда пыталось объяснить поведение диссидентов на основе самых примитивных представлений. Почему диссиденты становятся диссидентами? Пропаганда утверждала: потому что диссиденты просто неудачники. Жизнь не сложилась, вот они и клевещут на советскую власть. Говорили – не критики, а критиканы. Если женщина была не замужем, то ее поведение объясняли этим. В отношении диссента действует такое же правило, как и при рассказе анектодота – тому, кто анекдот с первого раза не понял, анекдот не повторять. Один мой знакомый все допытывался, почему я занимаюсь библиотекой. Я и так объяснял, и так. Это был хороший и полезный человек. Мне хотелось, что бы он меня понял. При нашей очередной встрече я ему процитировал Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Это он понял, и больше глупые вопросы не задавал. Вообще- то я не люблю патетику. Так же и в отношении мотивов тех или иных действий диссидентов многие ищут обывательские основания. Но как написал Пастернак, у нас «как крылья отрастали беды и отрывали от земли». Людям нашего поколения мы ничего не должны. Но пришли новые времена и новое поколение может быть использует наш опыт и наше понимание истории. Нам постоянно приходилось принимать решения, от которых зависела наша судьба. С большинством диссидентов, которых я знал, я познакомился уже в лагере. До того я не стремился завязывать новые или многочисленные знакомства в диссидентской среде. Я познакомился сначала с Игруновым, затем с Павловским. Многим было непонятно, почему Павловский на суде признал себя виновным. Я его об этом не спрашивал, потому что со времени его и моего ареста (1982) его не видел. Но до ареста мы разговаривали несколько раз в 1981 году. Он мне рассказывал о том, что его много раз вызывали в прокуратуру (Обвинения по делу «Поисков» вела покуратура, поскольку обвинения были выдвинуты по ст. 190 ч.1). Однажды следователь ему сказал: «О Вас слишком много говорят на западе. Ваша стрелка подошла к красной черте», хотя, насколько я знаю, Павловский непосредственно к запдным СМИ не обращался. Просто западные радиостанции использовали повод. Я бы назвал это злоупотреблением. Такие злоупотребления встречались. Обо мне было напечатано, например, что я даю (после ареста) информацию, но только о тех, кто уже уехал из Союза. Я вообще никакой информации не давал ни о ком и от кого можно было бы узнать, что я дал информацию о человеке, если тот уже уехал? В лагере ко мне как-то подошел Боря Манилович и спросил, что делать: КГБисты рассказали ему, что по «Свободе» передают, он дал информацию на того-то и того-то. Я, говорит, не давал никакой информации о них. Что я должен сделать, на «Свободу» в суд подать? Я ему посоветовал это не делать, поскольку из лагеря действовать можно было только через КГБ. У Павловского же получалось так, что его тексты были в той степени ему инкриминированы, в какой они были использованы западными СМИ, то есть, его тексты были использованы в противоречии с волей автора. Вопрос авторства и авторских прав в самиздате вопрос сложный, но добросовестное отношение к делу не мешало бы спросить автора о его собственных публикациях. Сам Галич возбудил, уже находясь в Париже, дело об его авторских правах и предьявил счет одному эмигрантскому издательству, которое публиковало его песни, когда он еще был в Союзе. В общем-то, Павловский писал для нас, а не для них и писал потому, что хотел понять некоторые вещи, а не для того, что бы кто-то использовал его произведения в качестве пропаганды. Но приходит время и на вопросы приходиться отвечать или да или нет. На основании практики использования его публикаций они стали «антисоветскими». Павловский ничего иного не сделал, как признал это факт. Западные СМИ инструментализировали существование диссидентов. Они могли активно поддерживать некоторых диссидентов, но диссент – это было наше явление, мало понятное на Западе. Да, я и думаю, большинство диссидентов верили в ценности западной демократии. Я и сейчас в них верю. Только остается открытым вопрос, кто является сейчас носителем этих ценностей? Полураспад Союза привел только к тому, что мировая политика стала агрессивнее. Сейчас я могу сказать это – интересы западной политики и нашей (диссидентской) политики не совпадали. Те, кто собирался жить в Союзе, не могли радоваться всем действиям западных правительств, особенно правительства Рейгана. Когда Рейган обьявил Союз империей зла – это было очевидно чересчур. Самое сложное для многих диссидентов было как раз то, что они попадали в положение «врагов» не только для КГБ, но и в представлениях многих людей, которые готовы были бы за ними следовать, но до определенной границы. За этой чертой пути как бы расходились. Так было у меня с несколькими знакомыми. Из-за того, что я стал диссидентом, мне пришлось пережить много неприятных минут. То, что обо мне КГБ распускало слухи, меня не беспокоит. Обидно быть не понятым теми, кто мог бы понять. Вообщем, судей на нас нет, хотя нас судили и приговаривали, обсуждали и осуждали наши действия. Вопрос признавать себя виновным или не признавать на суде не был формальным признаком диссидента. Я не признал себя виновным по чисто формальным признакам. Литература, которую я имел формально не была «антисоветской», так как не было опубликованного списка «антисоветской» литературы. Похожую позицию занял еще раньше Игрунов. Кстати после нескольких недель допросов, на которых я отказывался отвечать на вопросы, и следователи поняли, что положение не измениться, они попросили меня писменно объяснить мою позицию. Это я, конечно, сделал. Власти вели себя противоречиво. Солженицин написал и опубликовал «Архипелаг», его выслали. Я хранил и давал читать – меня арестовывают и судят, хотя нет никаких официальных источников, на которые мог бы оперется суд, чтобы доказать, что «Архипелаг» запрещен к распространению в СССР или что книга содержит клевету на советскую власть. Потом, уже в суде, прокурор Садикова спросила меня, стал бы я заниматься распространением литературы, если бы был опубликован список запрещенных книг. На что я ответил, что все равно стал бы, но признал бы себя виновным в смысле существующего закона. Виновным в том, что я распространяю клевету, я бы не признал, пока мне на основании проверенных фактов не доказали, что содержание книг не соответствует действительности. Но за содержание книг несет ответственность автор. Для многих людей диссиденты выглядят фанатиками, которы полностью отрицали законность существующей власти. Это было для большинства конечно не так. Речь шла, прежде всего, о согласии действий властей с законом и реальностью. Нас обвиняли в распространении клеветы, и мы требовали доказательств. Я встречал много людей, которые хорошо знали, как себя должны вести диссиденты. Только эти люди никогда сами не собирались становиться диссидентами.
Часть 6Суд над Игруновым
1 На суд над Игруновым я решил пойти, несмотря на то, что этим поступком я мог нанести вред библиотеке. Собственно, библиотека была не самоцель, а только средство. Распорядительное заседание суда по делу Игрунова состоялось 8 декабря 1975 года. 22 декабря было объявлено первым днем судебного заседания. 22 декабря был пасмурный день. Из Москвы приехали две известные диссидентки: Татьяна Ходорович и Мальва Ланда. Ходорович впоследствии уехала во Францию, а Ланда в ссылку, поскольку ее обвинили в поджоге ее собственной квартиры. Судебное заседание по делу Вячека должено было состояться в Областном суде. В деле Вячека есть странности. Его обвинили по статье 187 УК УССР (190 УК РСФСР), то есть по обвинению в «распространению заведомо ложных сведений, порочащих советскую власть», а не по ст. 62 УК УССР ( 70 УК РСФСР) «Антисоветская агитация и прпагада». Разница была в том, что по ст. 187 УК УССР делом должна была заниматься прокуратура, и ему грозило до 3 лет лишения свободы. При обвинении по 62 статье, часть 1, УК УССР делом должен был заниматься КГБ и срок был от 6 месяцев до 7 лет и до 5 лет ссылки. Вячека обвинили по 187 статье, а делом все же занимался КГБ. Для обвинения по 62 статье (70 УК РСФСР) у КГБ не хватало материалов. Была конфискована на одном обыске одна книга, на другом одна «Хроника», так что хранение «антисоветской» литературы было нельзя инкриминировать. И устных показаний было не много. Но, по-видимому, КГБ надеялось в процессе следствия добыть новые материалы, поэтому и взялось само за следствие. Но, как известно, практически ничего нового следователям получить не удалось, сам Вячек показаний не давал, библиотека самиздатовской литературы, которую искали не только в Одессе, но и в других городах Союза, как сквозь землю провалилась. Поскольку дело вел КГБ, суд сотоялся не в районном суде, а сразу в областном. Здание областного суда находится в Одессе по адресу Пушкинская, 3, но основной вход находится не со стороны Пушкинской, а со стороны перпендикулярной улицы. Пушкинская была, наверное, в каждом крупном городе, а вот эта перпендикулярная к ней одна единственная в мире – это Дерибасовская. Рядом с основным входом есть еще одно (или два) полуподвальные помещения, которые приспособлены для заседаний суда, каждое из которых имеет свой вход прямо с улицы. В одном из этих помещений и должен был состояться суд. Мы пришли пораньше и зашли в зал, когда там должно было состояться другое судебное заседания по хищению чего-то с овощной базы. Мы отсидели это заседание и хотели остаться в зале. Мы боялись, что нас потом не впустят в зал. Но все-таки пришлось выйти. Минут через 10 зал был вновь открыт. Мы были поражены, но нас без проблем впустили в зал. Но процесс так и не начался. Нам только обьявили, что заседание переноситься на неопределенное время. Впереди, в январе, должен был состояться очередной съезд КПСС. Видимо поэтому и перенесли судебное заседание на более позднее время. 2 Характер Вячека складывался мнгие годы. Это была ежедневная работа над собой и жизнь в ожидании неожиданностей. Моя жена рассказала мне следующий эпизод из жизни Вячека. Это случилось году в 1973. Тогда еще существовала мастерская народных промыслов. Самиздат там был почти всегда. В 1972-1973 годах я бывал в Одессе редко. Сначала я работал один год директором деревенской школы, а потом служил в армии. Собственно про библиотеку я почти ничего не знал. Я приходил в мастерскую, потому что там работал мой друг Олег Курса. Встречал, конечно, и Вячека, но редко, да и он вечно куда-то торопился. Наверняка КГБ имело информацию, что литература в мастерской бывает. Но этого было мало. Нужно было знать точно, что литература есть в данный момент и еще иметь убедительные для прокуратуры доказательства. Предположительно, КГБ заставил администрацию фабрики организовать инспекцию мастерской, а в действительности обыск. На это никакого разрешения прокуратуры было не нужно. Инспекции дело обычное, только в этот раз представители администрации пришли неожиданно и опечатали мастерскую. В мастерской действительно лежало несколько книжек. В этот день в мастерской работало три или четыре молодых человека. Они вынуждены были выйти из мастерской, но далеко не пошли и остались в подъезде дома напротив. Что же делать, они не знали. Вскоре подошел еще один работник мастерской, художник Хорошавин. Он подошел к двери мастерской и остановился в изумлении перед опечатанной дверью. Молодые люди осторожно позвали его к себе и объяснили ситуацию. Хорошавин сказал: - Я плохо вижу и плохо слышу. Я зайду в мастерскую, вынесу книги и останусь работать. Если кто придет, я скажу, что я ничего не заметил. Он открыл дверь, вынес книги и вернулся в мастерскую, где его и застали разгневанные инспекторы. Мастерская была снова закрыта и опечатана. Хорошавин остался стоять недалеко от входа в мастерскую. Вскоре пришел и Вячек с некоторыми работниками мастерской, которые были постарше. В это время к Хорошавину сзади подошло сзади двое молодых людей и что-то ему сказали. Он повернул к ним голову и приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Один из молодых людей ударил его в лицо. Рядом с Вячеком стоял работник мастерской, обладавший большой физической силой, который рванулся, что бы отомстить за Хорошавина. Вячек успел его перехватить. - Спокойно. Это провокация. Они только этого и ждут, – и он уверенно стал пересекать улицу по направлению к Хорошавину. За ним последовали остальные. Двое молодых людей поспешили уйти. Хорошавина я очень хорошо запомнил. Ходил он прихрамывая. Это был очень мирный человек, который совершенно не увлекался политикой. Он был художник. Вынести книги оказалось делом не сложным, но только потому, что в этот момент никто его не остановил. Так и приходилось жить в постоянном ожидании нападния. Это длилось годы. Арест Вячека не был неожиданностью ни для кого. Мы как-то примирительно думали о произволе КГБ. Что должно быть, того не миновать. С другой стороны в этом и заключался протест против произвола – сила ваша, но она нас не пугает. Наше дело правое. Наступает момент, когда нельзя больше колебаться или уступать. В какой момент и какой поступок поведет к настоящим преследованиям и к аресту, никто не может предугадать. Обычно это была цепь поступков. Вячек очевидно хорошо подготовился к аресту и следствию. Подготовка к аресту есть большая душевная работа, которую мало кто замечает. КГБ нападало на людей, которые не были преступниками ни в каком смысле. Это были обычные люди, как и все осталные. Неподготовленному человеку, которого застали совершенно врасплох, было нелегко оказать сопротивление. Но многолетняя работа с самиздатом, знание других случаев сопротивления произволу КГБ, накопленый опыт, давали возможность понять, как нужно себя вести в случае столкновения с сотрудниками КГБ. Вячек не давал показания на следствии, и в таких случаях КГБ прибегало к помощи психиатров. Он имел яркую, одаренную натуру, был начитан, имел широкие знания. Прямое столкновение с чиновниками из КГБ, да еще в 1974 году, ничего хорошего не могло принести. Нам еще самим было не ясно, как и о чем можно говорить с ними. Что они способны понять, а что нет. Тогда было еще не ясно, стоит ли говорить с ними вообще. Многое из того, что я слышал, впоследствии от сотрудников КГБ было разумным. Только условия для дискусси были неподходящими. Выпускайте на свободу, тогда и будем дискутировать. Но уж такая была традиция - свободная дискусси могла вестись только за решеткой. Это был парадокс системы. Я сидел в лагере для особо опасных госпреступников. Так согласно закону определяли диссидентов, которые были арестованы за «антисоветскую пропаганду». Мы говорили обо всем свободно, и я не слышал, что бы кого-то из «особоопасных» посадили второй раз, не выпуская из лагеря. А вот просто «клеветникам» (190 ст. УК РСФСР), которые сидели в обычных лагерях с уголовниками, очень часто давали второй срок не выпуская из лагеря. Мы думали о ситеме плохо и считали ее нереформируемой, в том числе и потому, что круг людей, которые с нами соглашались, был очень мал. То есть к системе все относились скптически, но доходя до определенного момента, останавливались. Свидетель Миролюбов показал на суде, что Вячек очень радовался, когда с ним соглашались. Большинство людей вне нашего круга просто отказывалось обсуждать политические темы всерьез, так что радость Вячека была очень естественной. Уже в 1988-1989 годах вдруг на улице меня мог остановить знакомый чиновник и начать объяснять, почему эта ситема так плоха. До 1982 таких случаев я не припомню. 3 Суд над Игруновым состоялся в марте 1976 года и длился 3 дня. На этот раз из Москвы приехал Александр Даниель. Он уже и раньше приезжал в Одессу летом, как и некоторые другие москвичи. О нем я знал собственно только, что он сын известных диссидентов Юлия Даниеля и Ларисы Богораз. Естественным образом я потом и с ними познакомился, поскольку приезжая в Москву, часто останавливался у Александра. Я бы не сказал, что мы стали друзьями, но наши отношения складывались, я бы сказал, на основе большого взаимного доверия. 11 марта заседание суда практически не состоялось, потому что не приехал психиатр Айзаматов из Москвы. 12 марта мы, человек 15, собрались возле суда и, когда входная дверь открылась, мы попытались пройти к залу заседания, но в узком коридоре расставив руки в стороны, да еще и с метлой, стояла техничка. Пройти мимо нее в узком коридоре, не прикладывая силы, было невозможно. Вдруг из одной двери выглянул господин и дал сигнал, по которому техничка отступила в сторону и дала нам возможность пройти по коридору. Зал суда был, конечно, полон. Там сидели молодые люди, по-видимому, студенты. Я попытался одного из них уговорить уступить мне место. Он сидел как каменный и не отвечал. Остальные прошли вперед и в районе первого ряда стали садиться на пол. Я присоединился к ним. Мы сидели не шевелясь целую вечность. Я и не сомневался, что, вскоре появиться милиция и нас заберут в отделение. Но произошло иначе. Вскоре открылась дверь и было провозглашено, что для заседания суда предоставляется другой, больший, зал. Мы полетели туда. Студенты не спешили и дали нам спокойно рассесться и только потом зашли за нами в зал. Этот эпизод в «Хронике» не был описан. Написано только следующее: «Всех желающих пропускали (и даже приглашали!) в зал суда. Работников КГБ и оперативников почти не было ни в зале, ни в коридорах суда. В последний день суда (это был второй день) зал оказался заполнен молодыми людьми, назвавшимися студентами-медиками, и друзьям и родственникам ИГРУНОВА негде было сесть. Тогда председатель Одесского облсуда предоставил для слушания дела большой зал, где всем хватило места». В этом месте «Хроника» не точна. Для каждого из нас это был риск, но все мы чувствовали – сейчас уступать нельзя. Когда я пришел домой в этот день после суда, моя жена была просто поражена. Мы рассчитывали на то, что меня могут задержать. Почему власти тогда уступили, я не знаю. Наверное, еще и потому, что самого Вячека не было в суде. Вячек не был в суде, и даже не знал о нем, поскольку он был признан невменяемым. Суд должен был выяснить наличие состава «преступления» и решить, в какой психиатрической больнице, общей, т.е. обычной или в специальной, т.е. в тюремной, его должны будут «лечить». В этот день были выслушаны свидетели и эксперт-психиатр Айзаматов из Москвы, который предлджил суду перенести заседание на следующий день, поскольку он хочет еще раз поговорить с Игруновым, так как предыдущая экспертиза состоялась более полугода тому назад. Суд согласился. На следующий день, 13 марта, пришел Айзаматов в суд и сказал, что он поговорил с Игруновым и убедился, что тот находиться на пути к выздоровлению и поэтому предлагает назнчить лечение не в с спецпсихбольнице, а в больнице общего типа. Суд, конечно, вынес приговор на основании мнения этого эксперта, и я вскоре смог посетить Вячека. Это была полусвобода. 1974 – 1976 годы были временами довольно либеральными, были заключены Хельсинкские соглашения и было особенно сильно оказано давление на коммунистов из-за признания диссидентов невмняемыми. За Игрунова, кстати сказать, выступило много известных диссидентов, и он был упомянуть среди 40-50 диссидентов в нобелевской речи А. Сахарова. Но я думаю, что у одесского КГБ были и свои, местные рассчеты. Все-таки они рассчитывали найти библиотеку. Если Вячек находится на свободе, он восстановит контакты с библиотекой и, если рассчеты оправдаются, КГБ получит самиздат. А запереть Вячека после этого будет совсем не сложно. Во всяком случае, я так предполагал. Это известно, что КГБ в различных районах страны вело себя по-разному. В Киеве КГБ и на западе Украины КГБ было очень суровым. В Москве – смотря по обстоятельствм. Но, так или иначе, мы были очень рады, что Вячек не попадет в спецпсихбольницу. Хотя было ясно, что ему предстоят сложные испытания. Я сам был в том же следственном изоляторе КГБ, и 2 месяца провел в том же 14 отделении одесской психбольницы. Я не чувствую, что со мной произошло несчастье, или как иногда говорят, что я был пострадавший. Однако до сих пор, когда я читаю «Хроники» и в том числе, описание истории Вячека, я испытываю те же чувства, что и 30 лет назад. Я испытываю возмущение: так с людьми обращаться нельзя. Для них, для КГБ, мир был разделен на своих и врагов. Для меня – нет. Мы уже воспринимали мир иначе, чем сотрудники КГБ: они жили в прошлом, они жили представлениями, которые уже не соответствовали нашему времени. Мы живем в другое время, не в конце сороковых. Арестовывать людей за убеждения – нельзя. Крайним вероломством я считал объявление диссидентов психически больными. Еще до суда стало ясно, что Вячека объявили невменяемым и это вызывало желание сделать что-то такое, что было бы заметно для многих, как месть. Довольно легко сделать что-то заметное, блестящее, обращающее на себя внимание. Труднее изо дня в день, из года в год выдерживать давление. Ведь у других-то одновременно течет нормальная жизнь. Они тебе сочувствуют, помогают и все–таки они – в стороне. Особенно трудно это человеку, как я могу себе представить, человеку, объявленному невменяемым. Жизнь – закончилась? Что впереди? Еще до ареста я представлял себе – а что будет с человеком после лагеря? Ничего. Все пути закрыты. Темнота. Я запрещал себе об этом думать. И если Вячек теперь легко о тех временах пишет, то это означает не то, что ему было легко. Ни тогда, ни сейчас он не хотел об этом думать. Мы жили по принципу – все свое ношу с собой. Мы были для КГБ и коммунистов врагами, а они для нас – противниками. 4 Суд над Вячеком подробно запротоколирован в «Хронике». Собственно из записи суда видно, что самый главный вопрос, вопрос о том, что Вячек распространял клеветнические материалы, порочащие советский государственный и общественный строй, судом не рассматривался. Суд занимался, собственно, второстепенными вопросами, принимая без доказательств позицию КГБ, что определенные книги и тексты являются «клеветническими». Еще зимой 65-66 года, когда я был студентом 1 курса университета, меня оттолкнуло то, как советская пресса и радио освящали процесс Даниеля и Синявского. Я не знал ни Даниеля, ни Синявского, и у меня не было знакомых в тех кругах. Но настроен я был критично. Этот процес я воспринял как нападение на самого себя. Я чувствовал, что это мое право на критическое восприятие мира было нарушено. То, что ни Даниелю, ни Синявскому не дали возможность открыто выступить и объяснить свою позицию, меня задело лично. Вячеку просто отказали в праве учавствовать в суде и защищаться. Иногда суды пробовали от свидетелей добиться признания того, что распространяемая литература была «клеветнического» содержания. Но в этом процессе и этого не произошло. Это не произошло в первую очередь потому, что суд занимался совсем другими делами. Главные свидетели просто отказывались давать показания в суде. Правда, Валера Резак подтвердил, что он изготовлял книги, но его как бы не интересовало содержание тех книг, которые он делал. Павловский, как известно, дал показания на предварительном следствии, но в дальнейшем изменил свою позицию и на суде отказался давать показания. Так же и Света Арцимович отказывалась отвечать на вопросы судьи. Вот что пишет «Хроника» об этом:
«Свидетель ПАВЛОВСКИЙ Глеб Олегович, 1951г.р., исключен из
ВЛКСМ за неуплату взносов, окончил истфак ОГУ. Не работает с
февраля 1976г. Заявил, что отказывается от дачи показаний.
Отношения свидетеля с ИГРУНОВЫМ "носили чисто
идейно-теоретический характер". Данный процесс, по мнению
ПАВЛОВСКОГО, "неправосудный, незаконный и невозможный". Суд
над человеком, распространяющим идеи, есть суд над идеями. "Я
коммунист по убеждениям и считаю, что такой суд невозможен в
социалистическом обществе", - показал ПАВЛОВСКИЙ.
Судья напомнила, что ПАВЛОВСКИЙ давал показания на
следствии. ПАВЛОВСКИЙ ответил, что его показания в КГБ,
независимо от его намерений, не проясняли, а затемняли дело. В
этом смысле они ложны, и он дезавуирует их. ПАВЛОВСКИЙ сознает
свою ответственность за дачу ложный показаний, но объясняет,
что был тогда семейным человеком и опасался за судьбу близких.
Те показания явились следствием непродуманного поведения.
Судья: В чем же была ложность ваших показаний? Вы
отвечали не по существу дела?
ПАВЛОВСКИЙ: Вопросы были не по существу дела. Я должен
был разъяснить это следователю.
Жена ИГРУНОВА, АРЦИМОВИЧ Светлана Феликсовна, 1950г.р. До
октября 1975г. работала воспитательницей в детском саду.
Судья: Производился ли в вашем доме обыск, что было
обнаружено и что именно вы сдали добровольно?
АРЦИМОВИЧ: Вы говорите об августе 1974 года? Никакой
добровольной выдачи не было, был обыск без предъявления
документов; после обыска я в растерянности написала под
диктовку "заявление о добровольной сдаче". Изъяли папку с
бумагами. На обыске 1 марта 1975г. обнаружили "Хронику текущих
событий" вып.32, фотопринадлежности, бумагу, картотеку к
"Хронике". "Хроника" принадлежала и мужу, и мне, так что о
распространении речи быть не может. Картотеку мы делали
вместе. Зачем она - отвечать отказываюсь и вообще отказываюсь
от дальнейших показаний.
Судья: Почему?
АРЦИМОВИЧ: Я знаю Вячеслава много лет как честного и
вполне порядочного человека. Он не совершал никаких
преступлений. Он вполне нормален. Я отказываюсь участвовать в
суде над ним.
Судья и прокурор: Это не суд. Мы его не судим.
АРЦИМОВИЧ: Разница только в терминах.
Адвокат: И на мои вопросы тоже отказываетесь отвечать?
АРЦЕМОВИЧ (поколебавшись): Да.
Судья: А на вопросы экспертов?
АРЦИМОВИЧ:Тоже.
Объявляется перерыв.
После перерыва судья вновь вызывает ПАВЛОВСКОГО и
уговаривает подтвердить показания, данные на следствии.
ПАВЛОВСКИЙ: Вопросы, заданные мне в ГБ, не должны были
иметь места, они не правомерны. Как и все разбирательство в
целом.
Судья напоминает ПАВЛОВСКОМУ о подписанном им
"собственноручном заявлении в органы", датированном августом
1974г.
ПАВЛОВСКИЙ: Я отлично помню все, что там говорилось, но
категорически отказываюсь давать показания. Отказываюсь и от
самого документа, т.е., не отрицая его существования,
отказываюсь подтвердить изложенные в нем факты. Линия моего
объяснения была навязана мне работниками КГБ КАСЬЯНОМ,
ДОВЖЕНКО, капитаном АЛЕКСЕЕВЫМ. Содержание документа
отказываюсь обсуждать, оно не соответствует действительности.
Я никого не хотел ввести в заблуждение. Я сам заблуждался
относительно дела в целом.
Судья: В чем именно вы заблуждались?
ПАВЛОВСКИЙ: В том, что мое знакомство с ИГРУНОВЫМ и наши
отношения затрагивают официальную сферу и являются объектом
исследования органов ГБ. Это не их дело. Я должен был тогда
мотивированно отказаться отвечать на вопросы.
Судья: Вы познакомились с ИГРУНОВЫМ, хотели приобрести
литературу... Ведь это же не преступно?
ПАВЛОВСКИЙ: Конечно, ничего преступного в этом нет. я мог
бы написать об этом в письме. В писать об этом в следственные
органы нелепо и противоестественно.
Судья: (зачитывает отрывки из "собственноручного
заявления"). "У меня сложилось впечатление о чрезмерно
критическом складе ума ИГРУНОВА... В итоге я его определил как
человека с крайне неорганизованным образом жизни... Я
периодически получал от него самиздатскую литературу. ИГРУНОВ
сам предложил знакомить меня с этой литературой по своему
усмотрению... Приносил книгу СОЛЖЕНИЦИНА "Август
Четырнадцатого", 10-15 номеров "Хроники", "Думать" Л.ВЕНЦОВА,
стихи ЦВЕТАЕВОЙ. Это происходило с января 1972 до весны 1973г.
"Хроника" была и позднее. В 1974г. я получил от ИГРУНОВА
"Архипелаг ГУЛаг". Без ведома ИГРУНОВА я предложил прочесть
эту книгу АЛЕКСЕЕВУ-ПОПОВУ, чтобы услышать его мнение как
историка..."
ПАВЛОВСКИЙ знакомится с документом и заявляет, что
содержание его соответствует только что прочитанному тексту.
От дальнейших пояснений ПАВЛОВСКИЙ категорически отказался.»
В дальнейшем прокурор заявляет несколько ходотайств, в том числе: «- об оглашении показаний ПАВЛОВСКОГО, данных им на
предварительном следствии.
Адвокат возражает против оглашения показаний ПАВЛОВСКОГО.
"Закон дает нам такую возможность в случае расхождения в
показаниях, данных на предварительном следствии и на суде. Мы
же здесь имеем дело с категорическим отказом от дачи показаний
в суде".
Суд отклоняет ходатайство прокурора об оглашении
показаний ПАВЛОВСКОГО.»
5 Мы смотрели на свидетелей со спины. Они, кончно, стояли лицом к судьям. Суд протекал спокойно, не драматично, поскольку все эти разговоры проходили без внешних эффектов. Все было буднично и нетеатрально. Сам я ничего не записывал на суде, да и вообще не любил записывать, вести дневники. То, что происходящее в зале суда было для меня частью моей жизни, но я не смотрел на это как на факт истории. Было очевидно, что происходящее имее политическое значение, но я это не чувствовал. Талейран как-то сказал: «Бойтесь первого движения души, потому что оно самое благородное». Моей первой реакцией на процессы против диссидентов, о которых я узнал еще из «Хроники», было отказываться в случае ареста от любых разговоров. Так поступили некоторые диссиденты. Но чем больше я занимался библиотекой, чем больше я узнавал о реальных действиях властей, тем больше я менял свою позицию. Я и сейчас не могу сказать, что у меня нет колебаний в оценках происшедшего. В прошлом скрыто еще много неясного для меня. С другой стороны, диссидентов в душе было много, но диссидентов было мало. Репрессивная сила государства тогда существенно ослабела. В то же время, мало кому хватало решимости прийти и постоять возле суда, где шел процесс против диссидентов. «Хронику», честно сказать, мало кто читал. Читать «Хронику» уже считалось чем-то опасным. Большая часть читателей все-таки ограничивалась невинной беллитристикой. В ходе процесса Игрунова я убедился, что читатели библиотеки, по крайней мере, не готовы сотрудничать с КГБ. Это было самое главное. И это было результатом многолетней работы Вячека. С другой стороны, не было отчаянного желания оказывать полномасштабное сопротивление КГБ. Все-таки для большинства политические вопросы не стояли на первом месте. Сотрудничать с КГБ или нет, было моральной проблемой, не политической. Перестройка хотя и проявила большой политический потенциал, не несла в себе большой духовный потенциал. В условиях экономической свободы было потеряно нечто, что придавало очарование нашему времени, когда Слово имел ценность и силу. Как говорится, преследовали или даже сажали за слово. Мы обладали культурой разговора, которая здесь, на Западе, давно уже исчезла, потому что отношения людей в большой степени стандартизировано. Когда Вячек был арестован и признан психически больным, я написал короткую реплику под псевдонимом Жаков, где я писал, что в демократическом обществе такие талантливые люди как Игрунов должны иметь возможность для развития своих талантов, а не должны быть преследуемы. Об этом маленьком тексте упоминает «Хроника». Так вот, если под демократическим обществом понимать Запад, то я был не прав. Личность, талант, духовные ценности здесь под давлением прагматизма потеряли свое значение. Это, очевидно, ведет к вырождению. Россия последнее время колеблется между необходимостью иметь сильное и хорошо вооруженное государстово, чтобы выдерживать постоянное сильное и агрессивное внешнее давление, и внутренней свободой. Здесь, на Западе, конечно, есть люди, с которыми можно поговорить, только их мало. Понимание советского диссидентства, однако, отсутствует у всех. Им это было так преподнесено, что были хорошие люди и были плохие КГБисты, которые приходили и хороших ни за что ни про что хватали и арестовывали. Что мы боролись, что пытались создать демократические структуры, для них чуждо и непонятно, потому что не укладывается в их стереотипы. Вячек знал это уже тогда, и это была его трагедия, потому что с одной стороны, он был принужден занимать жесткую позицию, а с другой стороны, понимать, что политически абсолютно жесткая позиция неверна, не соответствует времени. Каждый из нас имеет свои иллюзии. Я имел много знакомых среди эмигрантов. То есть, они были мои знакомые до того, как они эмигрировали. Уже тогда до меня доходили их представления об Америке: Советский Союз всюду. И по своему опыту могу сказать, что системы всюду, в сущности, одинаковы и западной воспитанности хватает ровно насколько, насколько ты готов молчать о своих правах. Если мои условные противники довольны, значит, я делаю что-то не так, если они начинают злиться, то это значит, я задел нерв. Для приобретения этого опыта не нужно ехать, конечно, обязательно на Запад. Но только здесь можно почувствовать границу между духовной и материальной жизнью так остро. Еще Такубоку писал о том, что все думают только о деньгах, но через минуту заметил, что и сам думает о деньгах. Деньги не изгнать из жизни. Однако есть два мира. В одном деньги есть самоцель, в другом средство. Америка была мне именно потому симпатична, что в большой степени деньги там были средством. К сожалению, эта тенденция почти вымерла, человек потерял свою ценность, и богатство само по себе стало целью. Коротко сказать – это приводит к созданию пирамидальных систем, которые, очевидно, имеют конечное время существования и в себе таят источник их же гибели. Пока Запад был основной экономической силой в мире, практически каждый мог здесь пригреться. Сейчас дела идут хуже, конкуренция Востока растет, уровень жизни падает. И от демократических основ Запад все очевиднее идет в сторону диктатуры под видом борьбы с терроризмом. Вячек это, я думаю, знал или чувствовал и был верен нашим традиционным ценностям которые, собственно, есть ценности античной культуры, и в рамках которой человек есть мера всех вещей. Но это делает нас сильным обществом, что в течение всего 20-го столетия к удивлению Запада, проявлялось в кризисных ситуациях. Если я прав, а я во многом был с ним близок, хотя он почти во всем совсем иной человек, то и сейчас он должен чувствовать себя диссидентом в России. 6 Колебания присущи нашему мировоззрению, потому что мы все время находимся на границе духа и материи. Ощущение неопределенности сопровождало меня все время, когда я занимался библиотекой и встречался с людьми. Меньше всего я хотел, чтобы мой образ имел что-то общее с такими людьми, которых мы знали из истории - твердокаменными большевиками, людьми с холодным сердцем и партбилетом в кармане или с кем-то подобным. Я думал, что мне идеология совсем чужда и считал себя человеком с широкими взглядами. Но однажды в 1974 году философ Вася Харитонов, который незадолго до того был выпущен из психиатрической больницы (Вячеку была инкриминирована его Конституция России), послушав меня, заявил, что я западник, что в его глазах было ругательством (так же как-то раз, послушав меня, один сириец заявил, что я сионист, а я просто рационально рассуждал о положении на Ближнем востоке). Мне приходилось встречаться и беседовать со многими людьми и часто мне приходилось удивляться – к какой партии я должен себя причислять? Этого я не знаю и до сих пор. Я был очень поражен, когда Павловский на суде заявил, что он по его убеждениям коммунист. Но эти душевные колебания не затрагивали сути дела. Для того, что бы стать диссидентом, важно не то, какие взгляды ты имеешь, а то, согласен ли ты сказать, что ты отказываешся от своих взглядов или нет. Я знал многих, которые не пытались вступить в жесткую конфронтацию с КГБ, потому что не были уверены в своих силах. Это было разумно. Для тех, кто сам с диссентом мало имел общего, дело выглядит как потивостояние сил, и одна сила должна победить. Это очень грубое представление. При оценке диссидентов, как я сам убедился, многие исходят из своих представлений о том, как должен был бы действовать диссидент. С самими диссидентами это представление часто имело мало общего. Никакое пособие не может помочь стать диссидентом. Скорее всего, в нужный момент нужно оказаться на правильном месте. В конце 1973 – начале 74 произошел суд над Строкатой. Я узнал об этом от какого-то своего знакомого. Случайно проходя по Пушкинской, я увидел группу стоящих людей. Я думаю, что это были друзья Строкатой. Я поколебался, но не подошел к ним. Моих знакомых там не было. Как бы они меня восприняли, я не знал. В общем, я прошел мимо. В случе Вячека играло большое значение, что я его знал, то, что он был привлекательным человеком, то, что он был человек идейный. В диссенте играли особенно большое значение личные отношения, духовная близость, взаимопонимание. Однажды, попозже, Анну Михайленко «пригласили» сотрудники КГБ в гостиницу «Черное море» и поговорили с ней. Был разыгран сценарий «хорошего» и «плохого» кегебиста. После этого разговора, я думаю, с Львом Валерьевичем Кулябичевым, она стала говорить, что в КГБ есть тоже хорошие люди. Мы над этим посмеивались, но она, при всех сложностях ее характера, вызывала уважение. Сделал бы это кто-либо другой, я бы перестал с ним общаться. Но не с Анной Михайленко. Она относиась к националистам и была постарше нас, другое поколение. Ее арестовали попозже, уже в 1980, 20 февраля. Некоторые мои знакомые иногда вдруг начинали говорить о том, что они никогда и ни за что не будут давать какую-либо информацию в КГБ. Я расценивал это уже как проявление слабости. В сущности решающих случаев в жизни раз, два и обчелся. Я могу насчитать, кроме суда над Вячеком еще три момента до того, как мне арестовали. Но после ареста уже проще разговаривать, потому что все точки, или большинство, уже расставлены. Вообще говоря, пространство для игры с КГБ было почти всегда. Но вот на суде, когда тебя пригласили в качестве свидетеля, возможностей для игры было мало. Тогда, во время суда, позиция Глеба Павловского и Светы Арцимович казалась нам естественной, потому была нам понятной. Их отказ учавствовать в процессе мы воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Так должны воспринимать это и читатели. Только это не было само собой разумеющимся. Это был результат очень сложной душевной работы. Мне повезло, потому что я не оказался свидетелем ни на чьем процессе. Но моя жена рассказала мне, как плохо себя чувствовали некоторые свидетели, ожидая приглашения в зал судебного заседания во время моего процесса. Один свидетель, который дал показания против меня, в общем-то, рассказал малосущественную ерунду, что я ему предложил Архипелаг, а он его читать не взял, только посмотрел пару страниц, так переживал, что его стала бить нервная дрожь, и моя жена стала его еще успокаивать и утешать. Главный принцип диссента не сформулирован в Еванигелии и не является ни религиозным, ни этическим принципом. Кант повторяет в своем категорическом иперативе лишь христианскую истину – «не делай другому того, что не хотел бы сам получить». Диссент был основан на ином принципе: «не делай того, о чем бы ты в дальнейшем сожалел». Иначе сказать, не делай ничего, что бы ты не хотел делать. Это совершенно индивидуалистический принцип. Делай только то, что ты хочешь делать, если дело касается отношений с государством, с КГБ.
Я относился как раз к тем диссидентам, которые мало разбирались в экономике, или просто не желали в ней разбираться, взвешивать все факторы мировой политики, не репрезентировали определенные экономические или политические силы. Мы пытались понять, почему история России так сложна и противоречива. Это был диссент в себе, потому что история была всюду и всегда секретное знание. Диссент был явлением политическим. Диссиденты конечно, представляли интересы большого слоя людей, хотя их никто и не просил это делать, но в первую очередь они следовали своим идеалам, и это движение должно было принять политические формы и даже форму борьбы и противостояния. Не это было важно. Политический разум не только делает одного выразителем мнения многих. Он еще и заставляет искать выход из сложившейся политической ситуации. Диссидентов была, в сущности, горстка. И в политике не принято подробно объяснять, кто, что и скакой целью хочет сделать или добиться. 7 Вячек сформулировал осенью 1974 года один принцип диссента – нет антисоветских книг, потому что это понятие Советы не определили. Поскольку это понятие – антисоветская литература – не является определенным, никто не может его заставить признать, что отобранная на обыске у него литература является антисоветской. Павловский сформулировал во время суда другой важный принцип – он вел с Игруновым частные разговоры, и КГБ не должно было его спрашивать о содержании частных разговоров. То, что он раасказал сотрудникам КГБ об этих разговорах – его ошибка. На суде он берет свои старые показания назад и отказывается вообще давать показания. Интересно то, что прокурор настаивала учесть в суде его показания на следствии, но суд после вмешательства адвоката Нимиринской, решил показания Павловского не учитывать. Это может показаться игрой, но это не было совсем уж игрой, поскольку суд, все равно почему, старался демонстрировать свою независимость от КГБ. Все-таки суд пытался доказать, что принцип разделения властей существует. На окончательный приговор это повлиять, конечно, не могло, то есть рассчитывать на то, что Вячека просто освбодят, было бы наивным. Тем не менее, система не была такой уж монолитной, как это могло показаться тем, кто держался в стороне от диссента. Для проявления этого факта должны были существовать диссиденты. Я даже думаю, что существование диссидентов помогало различным институтам власти лучше осознать их взаимоотношения. Интересно так же заметить, что большинство одесских психиатров Вячека психически больным не признали. Мне известно, что между врачами и сотрудниками КГБ в моем случае была нелегкая борьба – последние продолжали утверждать, что я сумасшедший. И все-таки психиатры довольно дружно отразили атаки КГБ. Я, правда, очень серьезно готовился к психиатрической экспертизе, изучал, по мере возможности, опыт, накопленный в других процессах, в том числе и в случае Вячека. Весь этот опыт как бы во многом почти никем не учитывался. «Хронику» читал очень маленький круг людей. Она считалась очень опасной. Вопросы злоупотребления психиатрией считались еще более опасными. Так что для почти всех перестройка, совсем не диссиденсое слово, была, правду сказать неожиданной, хотя многие ждали ее, или скажем, революцию сверху, еще в начале 70 годов под лозунгами – ученые и инженеры (а ля Платон) возьмут власть в свои руки или под лозунгом, всю власть директорам заводов. Все произошло иначе. И вот, когда я был овобожен 4 февраля 1987 года, не досидев в лагере 6 дней (арестован 10.02.82) и возвратился в Одессу, мне некоторые мои знакомые стали говорить: -Вот видишь, совсем не обязательно было вступать в конфликт с КГБ. Сел ты или нет, а перестройка все равно бы произошла. И я согласен – перестройка-то произошла, но это те ли политические изменения, на которые я рассчитывал? Или на которые рассчитывали многие интеллигенты? И теперь, когда я читаю статьи в смысле: «все не так, все не так, ребята», то хочу спросить – а где же вы были все эти годы и чего вы хотели? Просто надеялись, что все вдруг станет хорошо? Так не бывает. Один мой знакомый из Одессй написал, что когда он проглосовал во время референдума за независимость Украины, он надеялся, что все вдруг станет лучше. Перестройка произошла такая, которую мы заслужили.
Суд над Вячеком закончился. Это было облегчением для меня. Я имею в виду не приговор, я имею в виду мое собственное положение. Процесс меня почти не коснулся. Библиотека продолжала существовать. Почти 4 года после этого мне удалось книги свободно распространять. Процесс над Игруновым не закончился скандально, как некоторые другие, когда подсудимые и свидетели и на суде продолжали выяснять отношения, кто что кому давал или не давал читать. Это был хороший процесс. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
||