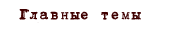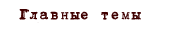|
Петр Бутов
Воспоминания об одесских диссидентах.
Части 19 и 20
Часть 19. В 14 отделении
<<< Части 17 и 18.
1
Четырнадцатое отделение психиатрической областной больницы находилось в одноэтажном доме. Дом находился в небольшом саду, который был в свою очередь окружен забором с колючей проволокой. Заключенные помещались в 5 комнатах, четыре из них были спальнями, двери которых выходили в 5 комнату, которая была столовой и помещением для свободного времяпровождения. Там играли в шахматы и шашки или просто сидели и разговаривали. Из этого помещения дверь вела в общий коридор. Эта дверь обычно была открыта. Впрочем, на всякий случай, была предусмотрена еще металлическая, решетчатая дверь. Несмотря на такую относительную свободу никто, не нарушал установленных правил. И даже те, чей рассудок, очевидно, был поврежден, вели себя достаточно спокойно. Но всеми ими владел страх перед уколами, которые должны были быть очень болезненными.
Эти помещения находились в левой части здания. В центре и справа размещались административные и служебные помещения. Там же было небольшое женское отделение.
Заключенные были в основном молодые люди, среди них несколько убийц, были грабители. В общем, настоящие преступники. Всего было в отделении одновременно человек 30.
Состав постоянно менялся.
Поговорив с ними, я узнал о жизни больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Во время экспертизы все они вели себя нормально и охотно рассказывали о себе и причинах, почему они попали сюда.
Среди них был один человек, который находился в отделении потому, что хотел уехать за границу, в Канаду. Прежде он был прежде моряком. Он, очевидно, был психически нездоров. Как он попал в отделение судебной психиатрии, я не знаю. Скорее всего, его просто в нарушение закона доставили туда. В конце концов, его признали психически больным и отпустили домой. В дальнейшем я узнал, уже когда вернулся из лагеря, что он стал почти полностью невменяемым.
Недавно я прочитал у Буковского, что его отправили в институт Сербского, не предъявив никакого обвинения. Таким образом, он не мог быть подвергнуть судебной экспертизе и некоторое время находился в институте им. Сербского, и врачи просто не знали, что с ним делать. Я полагаю, что это был аналогичный случай. Только в этот раз человек был действительно болен.
В первые дни моего появления в 14 отделении я попал на беседу с представителями из Москвы.
Москвичей возглавлял профессор Ландау. Меня вызвали, не предупредив зачем. Я вошел в помещение, в котором обычно находились врачи 14 отделения. Их, собственно, было трое, вместе с заведующей отделением, которая имела еще свой небольшой кабинет.
Когда я вошел в помещение, я увидел человек пятнадцать, если не двадцать. В центре комнаты стоял стул для меня. Я сел и внимательно посмотрел каждому из них в лицо. Напротив меня сидел как раз профессор Ландау, который и задавал мне вопросы. В том числе он спросил, почему я верю в Бога. Ответ на этот вопрос очень непростой. Я ответил на этот вопрос примерно так. Мы, то есть Вы, я и другие здесь присутствующие, являемся простыми людьми. Но были выдающиеся люди - Моисей, Будда, Иисус, Магомет. Их современники верили в них, верили в их пророчества. Я не вижу оснований считать иначе, чем те, которые знали их, и кто верил в их пророчества. Он спросил меня, почему я православный. Я ответил, что мои предки были православные, поэтому и я православный. Затем он меня спросил обо мне. Я сказал, что я по образованию физик-теоретик, опубликовал 4 работы. Он спросил, как часто меня цитировали. Я сказал, что не знаю. Беседа была непродолжительной.
Конечно, можно было отвечать попроще и поумнее, но говорить о религии вообще сложно и особенно говорить в такой компании. Во всяком случае, я специально подчеркнул, что мы, то есть и я и они, психиатры, люди простые, не обладающие какими-то особенными способностями. То есть, я себе не приписываю каких то особых качеств и способностей. Мои знания психиатрии не были глубокими, но основные принципы мне были известны.
Тем не менее, в реальной ситуации я не мог себе представить, как врачи будут оценивать то, что я говорил. Я полагал вначале, что, скорее всего, они будут идти на проводу у КГБ.
По всем правилам игры меня они должны были записать в шизофреники. Физик, диссидент, человек, интересующийся философией, что-то пишущий, который говорит быстро и мало понятно. Интерес к философии был решающим. Ведь мы жили в мире, в котором все философские проблемы известными корифеями были решены. Нам же, простым смертным оставалось только повторять известные истины и применять их на практике.
Я однажды проходил мимо корпуса исторического факультета университета, в котором также находилась кафедра философии, и увидел, как из здания буквально выскочил человек, которого преследовал один из доцентов кафедры и кричал ему вслед:
- Но ведь этот вопрос решил еще Ленин.
Преследуемый быстро шел поперек улицы и проезжающий мимо трамвай разделил преследуемого и преследователя. Огорченный доцент вернулся в университет.
2
Кроме трех врачей из 14 отделения (все - женщины) я разговаривал еще с двумя врачами.
С одним я разговаривал в 14 отделении, в присутствии врачей отделения. Он вел себя агрессивно и провокационно. Кажется, он был одним из партийных деятелей. Он задал, например, вопрос:
- А почему это Вы все время улыбаетесь? - я действительно относился к миру неагрессивно и часто улыбался. Он хотел меня разозлить, вывести из себя. Я ему стал отвечать в том же духе:
- А почему Вы не улыбаетесь?
В конце концов, я его вывел из себя и он разнервничался так, что врачи 14 отделения прекратили разговор.
Мне пришлось выполнять некоторые идиотские тесты. Но в центре экспертизы были разговоры.
Обычно при разговоре присутствовали все три врача 14 отделения. Они сами мне как-то сказали, что здесь уже был Игрунов. Они связывали меня и его. Видимо, они считали, что диссиденты имеют какую-то организацию. Их интерес был иногда естественным. Они не знали, в чем меня конкретно обвиняли, но знали статью, и им КГБ передало некоторые тексты, написанные мной. Однажды меня вызвала врач и предложила мне прочитать мой текст. Там как раз шла речь об арестованном диссиденте, который разговаривал с врачом-психиатром. Получилось интересное вложение, поскольку ситуация была подобна моей - диссидента также просили прочитать его текст. Насколько я помню (советские книги по психиатрии я давно не читал) шизофреники заполняют каракулями, которые сами не могут понять, страницу за страницей и выдают эти тексты за шедевры. Я не комментировал мой текст, мне также не были поставлены вопросы. Насколько я понял, это был просто тест, который должен был показать, понимаю ли я то, что пишу или нет.
Врачи спросили как-то меня, почему диссиденты обращаются к западным средствам информации. Я сказал, что известность - это защита для диссидентов.
Однажды они спросили меня, почему я занимался книгами. Я уклонился от ответа и сказал, что вся возня вокруг самиздата гроша ломаного не стоит. Если бы в магазинах было достаточно колбасы, то КГБ нечего было бы и самиздата боятся.
Я почувствовал, что я попал в точку, и они меня хорошо поняли.
Когда я сказал, что я по образованию физик-теоретик, работал как исследователь, имею научные работы, они поразились, поскольку КГБ приписало мне математический бред. Таким образом, комитет сам подорвал доверие к себе.
Прошел месяц. Мне стало известно однажды, что приехали сотрудники КГБ. Разговор с психиатрами был довольно долгим. Видимо, сотрудники КГБ настаивали на том, что я болен. В таких случаях, когда диссиденты не давали показаний, было обычным стремление КГБ объявить его сумасшедшим.
Мне было легче бороться, поскольку в 14 отделении был уже Вячек. То, что он там был и повлиял на психиатров, облегчало мое положение. Его они не забыли. Я старался на весь процесс экспертизы смотреть отстраненно, со стороны.
Я был не только исследуемым объектом, я был и наблюдателем. Наблюдателем над кем или над чем? Поскольку ситуации я рассматривал отстраненно, мое реальное Я не участвовало непосредственно в экспертизе. Со мной ничего нового не происходило. Я проигрывал ситуацию и смотрел на реакцию. Так просто это, конечно, не было. Но я знал, что мое спасение заключается в том, что я должен играть.
В мою пользу было то, что психиатры старались действительно разобраться в проблеме.
Я стал замечать, что между мной и врачами устанавливается некоторый контакт. Это было заметно и в отношении с другими сотрудниками отделения. Они выделяли меня среди других заключенных. Меня оставили еще на один месяц в 14 отделении. Давали понять, что они не относятся ко мне как к преступнику. Не обыскивали карманы, если никого другого из сотрудников не было. Однажды кто-то засунул мне конфету в карман. Кто-то принес мне журнал ЮНЕСКО, который и на воле было трудно найти.
Однажды заведующая отделением остановила меня во время беседы и стала пытаться своими словами пересказать то, что я говорил. Это ей удалось, то есть она поняла меня. Мне стало ясно, что не все, что я говорил раньше, было понятно психиатрам, и стал говорить медленнее и проще.
3
Для следующего разговора меня привели в другой корпус. Так что врачи из 14 отделения в разговоре не участвовали. Разговор начался так же с провокации. Врач сказал мне:
- Я заготовил для Вас ловушку.
Затем он меня спросил:
- А почему Вы много двигаетесь? - Я действительно старался по возможности много ходить. Еще в тюрьме следственного изолятора я с сокамерником ходил после завтрака, обеда и ужина по камере - от окна к двери и обратно. - У Вас что, недостаток движения?
Только выражение - недостаток движения - он сказал на латинском. Я тут же его спросил, что это слово означает. Он сказал
- Как, Вы не знаете?
Я говорю:
- Нет, не знаю.
Он тут же отвечает:
- А я думал, Вы все знаете.
Я говорю:
- Все никто не может знать.
Он разъясняет:
- Об этом в газетах сейчас часто пишут, например, в «Литературной газете». Я думал, Вы читали. Он имел в виду проблему недостатка движения. Ну и в таком духе дальше пошел разговор. Затем он заговорил об изъятых у меня философских конспектах. И как всегда, начал он с провокационного вопроса:
- А почему Вы занимаетесь философией?
Я сказал, что собирался сдавать экзамен по философии и стал читать философские книги, то есть я попытался привести рациональное основание для своего интереса.
- Для экзамена совсем не нужны глубокие знания.
- Да, Вы правы, для экзамена, конечно, не нужно Канта читать. Но я заинтересовался, о чем же эти философы пишут. Стал читать. Так и увлекся. В конце концов, если они это написали, то кто-то их и читать должен.
А он говорит:
- А я думал, вы создаете собственную философскую систему.
- Нет, сказал я, не создаю. И это была правда. Я интересовался философией и имел свое мнение о некоторых проблемах, но я не мог этими проблемами действительно серьезно заниматься. Да это и не было моей целью. Просто оторвавшись от марксизма, я хотел найти почву под ногами. Я, конечно, не стал ему подробно рассказывать о своих представлениях. Меня тогда заинтересовала проблема понимания. Есть такой нерешенный вопрос - как мы понимаем друг друга. Я склонен считать, что рационального ответа на этот вопрос нет. То есть как раз для того, чтобы нам друг друга понимать, нам нужен посредник. Так я и пришел к идее Бога. То есть Бог для меня то, что нас объединяет. Нам свойственно говорить о Боге, и мы придаем ему при этом образ человека. Но есть другой путь. В Средние века это было само собой разумеющимся, что человек живет в двух мирах, внутреннем и внешнем, и имеет два взгляда на этот мир. Мы видим этот мир как набор картинок и как набор представлений. Как устроен внутренний мир, мы, конечно, не знаем, но выделяем душу, которую мы можем собственно отождествлять с самим собой. То есть Я это и есть душа. Потом еще мы говорим о разуме, о сознании, уме. Мы общаемся друг с другом в первую очередь непосредственно и с помощью языка. Язык же других мы понимаем, потому что существует один язык, который и есть Язык. То, что мы называем русский язык, немецкий и так далее есть только представления этого одного Языка. Этот язык и есть представление о Боге. "Вначале было слово" и это было слово, которое мы воспринимали непосредственно. То есть не мы, собственно, а некоторые наши предки, что собственно, все равно. "Слово" это было то, что нас объединяло. Позже оно приняло форму звуков или знаков, что существенно увеличило наши возможности в понимании Языка. Собственно, познание и есть познание Языка. То есть, Дух и есть Материя. Мы находимся на границе между ними. Эта граница ощутима. Эту границу мы знаем, потому что мы знаем наш частный язык, которым мы пользуем в обиходе. Все языки обладают общими свойствами, которые имеют общие свойства. Это, по-видимому, первыми поняли "древние греки", которые имели очень высоко развитое чувство языка и развили логику. Развитие логики и есть построение границы между Духом и Материей. Таким образом, мы должны логику дальше развивать, разрабатывая "геометрическую логику" по аналогии с обычной геометрией. Таким путем мы построим границу между Духом и Материей. К этой границе мы приближаемся со стороны Материи.
Такие спекуляции были вполне возможны в кругу некоторых моих знакомых. Но, конечно, ничего подобного я не собирался говорить здесь.
Вообще, я избегал говорить о себе. Психиатры пытаются играть роль божков, которые контролируют ситуацию. Поэтому при разговорах с ними важно, по возможности, уводить их от предложенной темы. По крайней мере, я знал, что всякие философские спекуляции крайне опасны при разговорах с психиатрами. У меня было несколько знакомых психиатров, и я убедился в том, что психиатры имеют совершенно своеобразный взгляд на мир.
4
Второй месяц экспертизы приближался к концу. Однажды меня вызвала врач, которая по моим представлениям, была самой недоверчивой и снова стала мне задавать вопросы о религии. Мне кажется, психиатр по своей природе не может быть человеком верующим. Ведь он должен быть уверен, что в состоянии полностью понять человека, то есть, все действия человека должны быть рациональными. Человек с нерациональным представлением о мире является больным. Сократ, который повиновался голосам, в нашем мире не должен быть отравлен. Он должен быть помещен в сумасшедший дом. С этой точки зрения и меня ожидала спецпсихбольница. Я уже говорил о том, что с моей точки зрения существует чувство истины. Это чувство позволяет нам отличать, например, ложные утверждения от верных в формальных системах. Но это чувство более универсально. Мне казалось, что я владею очень развитым чувством истины. И во все сложные моменты моей жизни я останавливался и прислушивался к себе. Я, правда, не слышал голосов, но, тем не менее, я получал ответ в некоторой еще не ясной для меня форме и следовал этому ответу. Поэтому я воспринимал все происходящее со мной довольно спокойно – я был уверен, что действую верно. Если бы я рассказал об этом психиатрам, то я думаю, моя история приняла бы совсем иной оборот.
Вот мне снова стали задавать вопросы о религии. В этом случае я понимал, что момент наступил решительный и использовал домашнюю заготовку. Я спросил:
- А почему Вы спрашиваете меня все время о религии. Ведь я физик. Вы могли бы мне задать вопрос о физике.
- Физика очень сложный предмет.
- Да, физика сложный предмет, но религия гораздо сложнее.
Это было большое нахальство с моей стороны, но я предложил:
- Я задам Вам логическую задачу и если Вы ее решите, я отвечу на Ваш вопрос. Хотите?
- Нет, не хочу, - честно ответила она.
Тогда я сказал:
- Почему Вы все время пытаетесь говорить со мной о сложных и спорных вещах.
- Это ваш мир, мы должны в нем разобраться.
- Вы понимаете, что это не всегда легко. Я думаю, что в первую очередь вы должны убедиться, что в отношениях с обычными людьми я реагирую соответственно ситуации.
На этом наш разговор и закончился. В этом случае я хотел применить известную задачу из сборника задач по логике. Два джигита много соревновались друг с другом и решили изменить правила. То есть победить должен был тот, чья лошадь придет последней. Сели они на лошадей и стоят. Никто не начинает скачку. Тут, как это принято на Востоке, мимо них проходил мудрец и заинтересовался, почему джигиты сидят на лошадях. Они рассказали ему проблему. Он сказал им два слова и пошел дальше, а джигиты поскакали на лошадях во весь опор. Вопрос - что сказал мудрец. Ответ - поменяйтесь лошадьми.
Вскоре мне стало, совершенно неофициально, известно, что меня признали здоровым. А через несколько дней меня действительно вернули в следственный изолятор КГБ.
5
Перед тем как я попал на экспертизу, я читал о советской психиатрии и, конечно, имел очень мрачное представление об этой системе. Она и была мрачной. В общем-то, взгляды и установки психиатров таковы, что с их точки зрения некоторые диссиденты, и я в том числе, вполне могли бы быть признаны больными людьми. Они исходят также из концепции ограниченности интересов человека. Мои знакомые в Союзе (страны, которой нет, но о которой я пишу) мыслили широко.
То есть их беспокоили не только личные проблемы. Им было свойственно все мировые процессы воспринимать как процессы, к которым они причастны. Я полагаю, что эгоист, который обеспокоен только своими делами, является идеальным представителем здоровой части человечества. В Германии при определенных обстоятельствах диссидентов могли бы так же признать больными. Но здесь нет такого социального заказа, который имели психиатры в Союзе. Мне везет на необыкновенные знакомства. Здесь я также беседовал с психиатрами. Так получилось. И мне кажется, что они вполне бы записали меня в больные люди. Только я к ним за помощью не обращался, не вижу в этом необходимости. Тем не менее, я заметил профессиональный интерес ко мне, который исчез после того как я сказал, что в Союзе психиатры признали меня здоровым.
То, что меня признали вменяемым, заслуга не системы, а тех людей с которыми я столкнулся. То, что я читал, опыт других диссидентов, мне очень помогли правильно повести себя во время экспертизы и установить нормальные отношения с врачами. Поэтому я испытываю благодарность ко всем, кто занимался проблемами советской психиатрии.
В отличие от некоторых диссидентов, я не отделял себя от системы, но считал, что саму систему необходимо было реформировать. Мы есть народ со своей историей, со своими проблемами и, собственно, мы есть те, кто мы есть. Если я писал или говорил о том, что нам нужно реорганизовывать систему по западному образцу, то я исходил из того, что там, на Западе, экономика развивается успешней, чем у нас. Но в этом смысле я был также скорее в плену советской пропаганды, чем западной. Я помню еще как Хрущев провозгласил лозунг "Догоним и перегоним Америку". До второй мировой войны цель была другая - догнать Англию.
На первый план коммунисты ставили экономические успехи, но система перестала себя оправдывать. Но была страна, был народ, и я принадлежал к нему. В этом смысле я принадлежал к системе. Но системы возникают и исчезают, а что остается?
Однажды следователь Паранюк поразил меня, когда сказал, что мы (то есть они) и есть народ. Я думаю, он сильно заблуждался. Но кто может решить этот спор.
Так что я искренне не мог себя противопоставить психиатрам. В конечном счете, мы стали понимать друг друга. Моя цель была достигнута. Как у многих людей, у них был естественный интерес к диссидентам. И как-то в конце второго месяца одна из врачей спросила меня о том, почему книга "Мастер и Маргарита" Булгакова была столь популярна. Я взглянул на нее. Видимо она увидела в моих глазах некоторое сомнение и поспешила сказать:
- Это мне действительно интересно.
Меня привезли в следственный изолятор и я попал совсем в другую камеру и к другим сокамерникам.
На следующий день я опять говорил с Паранюком. Дело уже шло к концу. Пока я сидел, руководитель группы подполковник Дурнев успел побывать в отпуске. Но оставались еще показания "второсортных" свидетелей. КГБ хотел вызвать 38 человек как свидетелей.
Но при первой встрече после экспертизы я вспылил и вообще отказался разговаривать с сотрудниками КГБ. Я потребовал результаты экспертизы. Паранюк как-то грустно посмотрел на меня и сказал:
- Я ожидал такой реакции от Вас. Вы же видите, мы разговариваем с Вами. Это должно было значить, что раз они разговаривают, то меня признали вменяемым.
Но я не хотел с ним больше говорить. Мы расстались. Придя в камеру, я передумал. Конечно, теперь, после экспертизы, я могу без риска отказаться с ними разговаривать. Но это не совсем честно. Моя позиция была - бороться с системой и не переносить на людей недостатки системы.
После обеда меня опять вызвал Паранюк. Я пришел и сказал, что я изменил свою позицию. Он воспринял это с облегчением и попросил меня это записать. Я это и сделал. Он в свою очередь дал мне прочитать результаты экспертизы. Видимо они собирались дать мне результаты позже, в то время, когда я мог уже ознакомиться с материалами дела.
Это был конец июня. Первая часть моей экспедиции подходила к концу. Я был, в общем-то, доволен собой. После 4 месяцев заключения я приобрел уверенность в себе. В начале для меня было неясно, чем все дело закончится. В конце концов, мы все всего лишь люди. Каждый имеет свои слабости. И я должен сказать, одно дело разговаривать о советской власти со знакомыми, и совсем другое - в КГБ. В глубине души возникало некоторое чувство неловкости, когда мне зачитывали показания свидетелей. Но стесняться должны были они - эти разговоры не должны были быть предметом расследования, как это заявил в свое время еще Павловский. Что бы я не говорил, это было мое частное дело. Что бы я не писал, я эти материалы еще не опубликовал. На этой позиции я закрепился и отстаивал ее.
На самом деле следователям больше всего не нравиться нестабильность позиции, когда те, с кем они работают, меняют записанные показания. Видимо, это считается плохой работой.
Теперь следователи чувствовали себя свободнее со мной. И как-то Паранюк посмотрел на меня и сказал:
- Я Вас не понимаю.
Существенным в психиатрической экспертизе было утверждение, что сверхидея у меня есть, т.е. как бы подозрение следователей было не беспочвенно, но с учетом интеллекта, в рамках реальности. Как-то зашел руководитель группы Дурнев, а он заходил иногда к следователю. Они уже писали обвинительное заключенье, и он нуждался в консультациях с Паранюком, так вот, он зашел и как-то с досадой сказал мне:
- И зачем Вам нужно было лезть в политику! Лучше бы Вы занимались своей физикой.
Я промолчал. Я тоже так считал. Только я считал, что КГБ должно было думать об этом раньше, до ареста, а не теперь, когда все находятся в ситуации, которую не могут изменить.
После того, как я вернулся из лагеря, я встретил многих критиков системы. До сих пор встречаются в России люди, которые думают, что они занимаются политикой, продолжают говорить о сталинизме и подобных вещах как о современных реалиях. Дорогие мои, думаю я иногда. Хороша ложка к обеду. Время-то ушло. Об этом нужно было говорить в свое время, говорить сегодня - это спекулировать на серьезной теме, но не решать проблемы.
Для меня сталинизм, как это обычно называют, умер 31 один год назад, в 1974 году, когда стал я заниматься библиотекой.
Еще в связи увлечением философией я хотел бы сказать, что я воспринимал все-таки историю философии несколько идеально. Мы выросли в неестественной духовной атмосфере. Делить философию на "нашу" и "буржуазную" было неестественно, хотя корни этого мне понятны. Нам казалось, по крайней мере, что на Западе существуют идеальные условия для мыслителя. Ситуация была гораздо сложнее и остается сложной. О самом Канте писал Шопенгауер в "Kritik der Kantische Philosophie":
"Es ist gewiß keines der gringsten Verdinste Fridrichs des Großen, daß unter seiner Regirung Kant sich entwickelt konnte und die "Kritik der reinen Vernunft" veröffenlichen durfte. Swerlich würde unter einer anderen Regierung ein besoldeter Professor so etwas gewagt haben. Schon des Nachfolger des großen Königs mußte Kant versprechen, nicht mehr zu schreiben.",
что я перевел следующим образом
"Немалая заслуга Фридриха Великого состоит в том, что во время его правления Кант смог развиться и смог опубликовать "Критику чистого разума". Трудно было бы себе представить, что во времена правления другого один состоящий на службе профессор решился бы на такое. Уже наследнику великого короля должен был Кант пообещать больше не писать".
Это было разумно со стороны Канта. Если бы Кант продолжал писать, то, как минимум, потерял бы оплачиваемую должность. Так что коммунисты поступали не совсем необычно, требуя определенной дисциплины в высказываниях.
Часть 20. Конец следствия
1
Только вернувшись в следственный изолятор, я стал по-настоящему осознавать, что со мной происходит, и что моя жизнь радикально и необратимо изменилась. В 14 отделении во время прогулок я видел деревья и цветы, живую природу. В изоляторе на прогулке можно было увидеть только небо. Заключенному трудно поверить, что та скудная жизнь, в которую он окунулся и есть его жизнь, его судьба. Я знал, диссидентам нет возможности вернуться к нормальной, прежней жизни. И им часто угрожает новый арест.
Я думаю, что на каждого человека тюрьма производит тягостное впечатление. Каждый заключенный является психически травмированным человеком. Одни переносят это легче, другие труднее. Заключение оказывает постоянное давление и представляет собой постоянную скрытую угрозу. Я бы сказал, что я находился в относительно хороших условиях. Мой первый сокамерник был очень хорошим партнером и с ним можно было легко договориться. Все-таки бывший офицер. В новой камере я познакомился с человеком, который обладал трудным прошлым, уже сидел и, по-моему, в следственный изолятор был переведен из лагеря. В Кировограде, кажется был авиационный завод. С этого завода воровали платину и продавали, в том числе за границу. Мой сокамерник, кажется, привозил платину в Одессу и передавал ее дальше для того, чтобы ее передавали за границу. Однажды осенью он вернулся в камеру, постоял и сказал растерянно:
- Расстреляют.
Следователи сказали ему, что один самолет разбился и, по-видимому, оттого, что вместо платины использовали другой материал, который был не так надежен. Вскоре его перевели в Киев. Это был трудный сокамерник, поскольку нервы у него были напряжены. Но он был труслив.
В следственном изоляторе я наслышался разных историй, которые могли бы лечь в основу интересных сюжетов. Обычная жизнь, конечно, условность. Я часто с изумлением узнавал, что иногда творили мои знакомые или что происходило с ними. Но те истории, которые я узнал в заключении, конечно, были как правило, совсем другого качества.
Я писал, занимался своими исследованиями. Моя внутренняя жизнь не прервалась. Внутренней раскованности я не чувствовал. Но я заставлял себя работать.
В то время я стал писать сонеты и написал их довольно много. Я писал их упорно. Перед арестом я себе не ставил никаких определенных задач, я не думал о том, что я буду делать в заключении. Стихи к моменту ареста я уже давно не писал. Было не до того. Теперь я попробовал писать, и у меня снова получилось. Правда, эти стихи были довольно вымучены.
Кроме того, я возился с математическими формулами, продолжал мою научную работу.
В субботу вечером звонили колокола греческой церкви. Звон колоколов и звук сирены маяка, которую включали во время туманов, только и проникали в камеру. Но когда звонили колокола, мое воображение просыпалось, и я опять возвращался в Одессу, которую я знал.
Надзиратели узнают многое о заключенных. И вот как-то вечером заглядывает к нам надзиратель и передает томик Есенина. За это он мог потерять работу. Дает на короткое время, на пару часов. Есенин долгое время был не любим властью. Был почти запрещен. И вот зная, что я занимался запрещенными книгами, он мне принес томик поэта, который был опальным. Я получал и в лагере, и в 14 отделении знаки понимания, но этот знак особенно тронул меня. Даже среди надзирателей, которые работали десятилетия, было свое особое мнение о том, что хорошо и что плохо. Тогда я это воспринял так. Сейчас же, когда уже я писал эти строчки, мне пришла в голову плохая мысль - а что если это была всего лишь провокация, чтобы у меня возник соблазн передать что-то на волю, записку? Нет, лучше я останусь при том представлении, которое у меня возникло тогда, в камере.
По крайней мере, мне стало понятно, что не существует абсолютно надежной системы. Не каждый, кто служит системе, абсолютно надежен. Скорее никто.
2
В один прекрасный день мне принесли обвинительное заключение. Это означало, что следствие идет к концу. Первое знакомство с этим текстом вызывало во мне отвращение. Теперь я к нему привык и чтенье его не вызывает во мне никаких эмоций. Все-таки знак эпохи. Ксерокопия с машинописной копии. На грубой бумаге, формат DIN A4. Обложка также из бумаги. Обвинительное заключение было написано на 57 листах. На трех листах были перечислены свидетели и еще на двух листах была написана справка. Само обвинительное заключение было подписано старшим следователем по особо важным делам следственного отдела КГБ УССР по Одесской области подполковником Дурневым. СОГЛАСНЫ подписали Начальник следственного отделения Рыбак и Начальник Управления КГБ генерал-лейтенант Бандуристый.
Оно было составлено 23 июля 1982 года и вместе с уголовным делом согласно 225 УПК УССР направлено прокурору Одесской области для утверждения.
Что в перестройке удалось и что нет - это сложный разговор. Но, по крайней мере, многое в государстве изменилось. КГБ рухнуло. Но и Слово потеряло силу. Свобода политической деятельности, оказалось, кроме свободы слова требует еще денег, для того, чтобы ее можно было реализовать.
Обвинительное заключение было утверждено Прокурором Одесской области Государственным советником юстиции 3 класса Г. Н. Ясинским.
Собственно обвинение заключалось в следующем:
"В период 1975- 1982 годов Бутов, в целях подрыва и ослабления Советской власти, проводил среди своего окружения антисоветскую агитацию и пропаганду: систематически распространял клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй; распространял, изготовлял и хранил в целях подрыва и ослабления Советской власти литературу в виде отдельных книг и документов, сборник, статей, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй; хранил в тех же целях фотопленки с негативными изображениями литературы антисоветского содержания."
Я сохранил опечатку "сборник, статей", что должно означать "сборники статей".
Сейчас мне бы не хотелось сводить счеты с КГБ, когда его уже нет. Хотя следователь Паранюк и сказал мне, что "антисоветскую" экспертизу текстов проводили они, я думаю, они опирались на разработки некоторых академических институтов. КГБ было только заметной частью системы.
Некоторые тексты, которые у меня были изъяты и вошли в обвинительное заключение, я бы сам не стал писать.
"В документе "Памяти Ларошфуко" извращается марксистко-ленинское учение о коммунистическом обществе; советский народ оскорбительно называется "стадом", которого ...ведут к стойлу, к жирному светлому обществу, где корму всем будет вдосталь, по потребностям".
Советский человек рисуется как "грязный Хомо Советикус" - политически, этически, интеллектуально."
Но такой памфлет все-таки был допустим в тех условиях. Литература должна была быть шокирующей. Она должна была вызывать вопросы - а верно ли это? Где правда? Такая литература была психологически оправдана в ситуации, когда собственное мнение вообще нельзя было открыто высказывать. Советская пропаганда также была оскорбительна, особенно потому что каждого человека стремились привязать к этой пропаганде с помощью сети "политпросвещения" и систем политических семинаров, которые проводились по месту работы, и посещение которых практически невозможно было избежать. Неважно, что думал человек. В такой системе каждого стремились заставить выступить на семинаре говорить часто довольно бессмысленные вещи.
Кто решиться на работе или в институте говорить не то, что нужно с риском потерять работу или место в институте? Эта система не могла вызывать чувство противоречия у думающих людей, которые переносили свое негативное чувство и на молчаливое большинство, которое не способно было свободно говорить и замученное бытовыми проблемами, говорило все же, когда нужно об успехах в построении коммунизма.
Я не могу старую систему сейчас обвинить в том, что она не могла сделать жизнь населения более терпимой. Во времена моего детства и юности изменения в стране происходили быстро. Я не могу сказать сейчас, что относительно плохие условия жизни были следствием сознательной политики. Правительство располагало скудным бюджетом, и вынуждено было тратить большие средства на вооружение. Я считаю - это было верно. Но правительство не имело мужества сказать правду или не хотело это сделать это до определенного времени.
Я думаю, мало кто знает сейчас, что перестройка была обусловлена беспокойством верхушки КГБ и армии в отношении обороноспособности Союза. Я думаю, что вообще без позитивного участия КГБ в перестройке этот политический процесс не смог бы начаться.
Снизу, где был и я, казалось, что на "верху" просто ничего не понимают - политическая система была засекречена, механизмы принятия решений были не видны, и это вызывало раздражение.
Казалось, что ничего не происходит и ничего не может произойти. Это могло вызвать желание писать резко и оскорбительно, в том числе и в отношении "многотерпеливого" народа.
Меня не просили высказаться по поводу документов, которые мне предъявлялись, но я бы не стал от них отрекаться. Я не мог бы этого сделать, потому что в случае ареста автора мое мнение укрепило бы обвинение. Насколько я помню, в целом, КГБ тогда стремилось собрать негативные высказывания самих диссидентов о самиздатовских произведения, чтобы использовать эти мнения для обвинений. В таких условиях не от кого нельзя было потребовать, чтобы он негативно высказывался о самиздате.
3
Я один раз, правда, попытался это сделать с вот какой целью. Нас обвиняли как уголовников. Диссиденты боролись за то, чтобы их признали политическими преступниками. Здесь также заключено противоречие. Политические преступники должны были все-таки совершить уголовное преступление, но с политической целью. То есть, они все же являются преступникам с точки зрения УК. Мы же не были преступниками. Даже по формулировке статьи нас сажали за клевету, то есть за заведомую ложь. КГБ по букве закона должно было доказывать не только то, что в тестах самиздата содержится ложь, но и то, что я знал, что это ложь.
Это, конечно, не делалось. Ложью было все, что не соответствовало официальной пропаганде, а цену этой пропаганды знал, я думаю, каждый.
Я же попытался добиться, чтобы мое мнение было внесено в протокол допроса. Тем самым я хотел получить доказательство того, что процесс все же политический. Это было на утреннем допросе. Но после обеда следователи, видимо, поняли, что я пытаюсь поставить ловушку и в окончательном варианте допроса эти пассажи не были включены, протокол допроса был переписан.
Если бы нас пытались обвинять в оскорблении системы, то это иногда было бы верным. У нас не было другого выхода, как говорить жестко о системе. Таковы правила игры - они безгранично себя хвалят, мы их ругаем. Мы не могли ограничиться тем, что, как говорилось, существуют отдельные недостатки. Мы должны были говорить, что система порочна по существу.
В этом смысле интересен комментарий КГБ следующего текста:
" В документе "Люди, протест, культура" клеветнически утверждается, что Советская власть якобы двигалась "неисповедимыми путями, выползая из предкрахового состояния, что ... общественная система в СССР идет к грандиозной катастрофе..." Советский Союз называется "обреченным домом". В документе возводиться клевета на государственный аппарат, называя его "иерархией", "верхи и низы" которого не знают интересов народа; возводиться клевета на Конституцию СССР 1936 года, на политику КПСС и Советского правительства в области развития культуры в СССР, называя ее "вытаптыванием, истреблением, подавлением, тупостью".
В документе возводиться клевета на советскую действительность, что в СССР якобы существует обширная оппозиция, ставиться вопрос об активизации деятельности антисоветчиков по распространению клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, по распространению антисоветских документов".
Этот текст был написан Павловским, а подписан Ольгин.
4
Следствие приложило список из 28 имен людей, которых оно рассматривало как свидетелей.
Но в обвинительном заключении упоминаются имена только 6 человек, которые дали показания, действительно важные для следствия. 4 из них были мои соученики по университету и двое - сотрудники по работе. Были, конечно, и другие показания, важные для следствия, но не включенные в обвинительное заключение.
Дело N 271, то есть мое дело, имело 12 томов. Первые 4 тома были 1. Допросы свидетелей, 2. Допросы меня, тома 3 и 4 содержали различные материалы, результаты экспертиз и т.д.
Остальные тома были просто картонные самодельные ящички, которые были склеены самими следователями и они гордились, шутливо впрочем, своей работой и в которые были сложены изъятые у меня и приобщенные к делу книги. Все никак руки не дойдут, а пора потребовать эти вещественные доказательства назад.
Обвинительное заключение, точнее его копию, я получил в собственность и хранил в камере.
После этого мне открыли материалы дела. Там ничего нового в принципе для меня не было. Гораздо интереснее для меня было бы почитать то, что не входило в материалы дела. Те доносы, которые собирало обо мне КГБ.
Поэтому я и не хочу называть имена свидетелей, которые дали показания против меня. Дело сделано. Меня, конечно, раздражало то, что многие так сказать свидетели приписывали мне высказывания, которые я не произносил. Или они свои представления выдали за свои, то есть мало поняли из того, что я говорил, или следователи оказали на них давление и сформулировали за них.
Например.
"В сентябре-октябре 1979 года в беседе с Л., происходившей на Приморском бульваре в г. Одесса Бутов клеветнически утверждал о наличии в СССР политзаключенных, которых якобы специально приводят в психически ненормальное состояние и отправляют в психиатрические больницы."
Утверждение о том, что политзаключенных "специально приводят в психически ненормальное состояние" было не мое. Это был вопрос ко мне, правда ли это. Но свидетель запомнил свой вопрос, а не мой ответ. Насколько верно были переданы мои слова, не играло большой роли. Важно было то, какие темы меня интересовали. Тот, кто говорит о политических заключенных, о злоупотреблении психиатрией в политических целях уже делает то, что для власти нежелательно.
Протоколы писали следователи, и некоторые мои знакомые просто поражались, как все переворачивают следователи. Я как-то думал, что это особенность следователей КГБ, приспосабливать высказывания к своей версии.
Я думал, что это особенность следователей КГБ в политических делах. Это не так. К сожалению, и здесь в Германии суды могут так переиначить происходящее, что из, например, "ничего не сказал" получится сначала "произвел впечатление, что, ..." и в следующей инстанции это превратится уже в "утверждал, .что..." Как с этим бороться?
Или вот еще пример из обвинительного заключения:
"Допрошенный по факту хранения фотопленки с негативным изображением антисоветских текстов Бутов показал, что хранил их в своей квартире до изъятья в во время обыска 30 июня 1981. При этом он признал, что указанные тексты содержат клеветнические измышления, порочащие государственный и общественный строй. По другим обстоятельствам в этой части обвинения Бутов показания дать отказался."
Я же ни об одном тексте не говорил, что текст "содержит клеветнические измышления". Это следователи просто придумали.
Для меня это представляло психологическую сложность. Каждый раз, когда я встречал такие места, мне хотелось спорить, возражать. Но это было неправильное место для спора – пытаться оспаривать обвинительное заключение можно в суде. В КГБ спорить не о чем.
Сам арест и начало следствия было неправомерно и необоснованно. То, что его пытались с лживыми доводами обосновать, было второстепенным.
Общение с КГБ закалило меня в том смысле, что я не ужасаюсь теперь лжи чиновников. Хотя первое столкновение было психологической проблемой для меня. Было такое чувство, что тебе связали руки. Чувство беспомощности. Тут ничего другого не остается, как быть спокойным, сохранять спокойствии. В душе все бурлит, но на поверхности ничего не должно быть заметно. Ведь следователи отлично знают, что они делают. Профессия делает их лжецами, но "так надо".
Но это не особенность Союза или России. Нам казалось, что где-то есть рай. На Земле рая нет.
5
Из разговоров с моими знакомыми выловили следователи, что я клеветал на братскую помощь Афганистану и Анголе, утверждал, что система образования и воспитания несовершенна, клеветал на систему выборов, возводил клевету на внешнюю политику Советского союза и сравнивал ее с политикой царской России и так далее.
Потихоньку я просмотрел все 13 томов дела. В конце концов, не все ли равно, что было написано в обвинительном заключении.
Отношения со следователями установились довольно мирные. Я обычно ни о чем не просил. Так написано в "Архипелаге" - не проси. Но в новой обстановке я попросил передать мне около 10 математических книг. Пришел Дурнев и спросил меня только, находятся ли книги у меня дома. Это были мои книги и были у меня дома. Тогда Дурнев согласился привезти их. Сотрудники КГБ приехали неожиданно для моей жены и по списку попросили книги для меня и действительно передали книги. Эти же книги плюс еще пару других я привез и в Германию. В одной из них (Дубросин, Новиков, Фоменко, "Современная геометрия") так и храниться обертка от конфет, "Сливовый ликер" Мукачевской кондитерской фабрики, которую я использовал как закладку в лагере. Эта обертка собственно единственная вещь, которая у меня осталась с тех времен. Кроме фотографии на справке об освобождении. Эта фотография была сделана в лагере и плохо проявлена, так что она сильно выцвела. Если сравнить с фотографией для паспорта, которая была сделана незадолго до ареста, то найти что-то общее трудно. Два разных человека. Но я был тот же самый.
Никакого торжественного прощания со следователями не было. Только в последний день Паранюк сказал:
- Мне было бы интересно прийти к Вам на суд.
Я сказал:
- Приходите, я не против.
Он сказал:
- Это не принято, чтобы следователи приходили в суд:
Я сказал:
- Если хотите, я потребую, чтобы Вы пришли в зал, иначе я буду отказываться от участия в заседании.
Он перевел это в шутку. Так мы и расстались.
До суда оставалось около 20 дней. Следователи откровенно радовались, потому что впереди был отпуск. Правда Дурнев уже побывал в отпуске, пока я был в 14 отделении.
Да, они хотели, чтобы я взял адвоката. Я знал, что я не обязан его брать, но, тем не менее, согласился. Они предложили адвоката Петра Баркаря. Баркарь пришел, мы перекинулись парой слов, он пытался демонстрировать отчужденное отношение к антисоветчику. Взял второй том - допросы меня - и вернулся минут через тридцать, положил том на стол и сказал:
- Здесь же нечего читать.
Так я расстался на некоторое время с сотрудниками КГБ.
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|