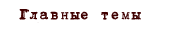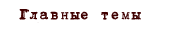|
Ноябрь 2008 г. Записала Шварц Е. Владимир Малинкович:
Как меня высылали из СССР См. также предыдущую беседу с В.Малинковичем "60-е годы в Киеве" Малинкович: Я до последнего дня не собирался никуда уезжать. Начиная со второй половины 70-х годов в Киеве стало очень душно в плане жесткого преследования диссидентов со стороны КГБ. Игрунов приезжал где-то году в 77-м в Киев и нас вместе где-то задержали по подозрению, что мы кого-то убили. Игрунов: Это было на проводах Винса. Малинкович: Да, мы к Винсу ходили. Вот атмосфера была такая: без конца задерживали, без конца хватали… Игрунов: Обвинялся в убийстве, грабеже банка, торговле наркотиками… Малинкович: Обвинения, конечно, потом сняли. Подержали где-то там несколько часов, потом отпустили. Это частный случай. Шварц: И много таких случаев было? Малинкович: Очень. Например, в 1976 г. появилась Украинская хельсинкская группа. Шварц: В которой Вы приняли участие… Малинкович: Тогда еще нет. В 1976 году, к годовщине Хельсинки, появилась Московская и Украинская хельсинкская группы, причем генерал Григоренко входил и туда и туда. А я в тот момент был свободным студентом. Да я и всегда был в стороне от каких-либо организаций. Но потом начались преследования, и мы стали писать письма протеста. И когда мы стали это делать, нас стали прессовать. Прежде всего, вплотную ходили. Это была откровенная слежка. Особенно когда вечером ты возвращаешься от каких-нибудь приятелей, ускоряешь шаг – и они ускоряют шаг. Вплоть до того, что я бегу – и они бегут. Бывали обыски прямо на улице, обыски дома. Когда первую Группу очень быстро арестовали, Оксана Мешко стала фактическим руководителем Хельсинской группы. Она жила на улице Куреневке. Это улица темная, старые маленькие дома, и когда я к ней ходил, то почти каждый раз задерживали, обыскивали, и вокруг ее дома были фактически сплошные пункты наблюдения. Но, тем не менее, мы к ней ходили, и я тут же звонил по телефону в Москву о всяких неприятностях, арестах и прочих делах. Как правило, я звонил Великановой, но иногда звонил Сахарову, и чаще всего попадал на Руфь Григорьевну и передавал информацию таким образом. Передавали информацию в письменном виде, передавали через Славу Дубенца и Фиму Эпштейна, который с Великановой… Мы постоянно передавали какую-то информацию и подписывали письма. И обменивались самиздатом. … А потом стали и «наших» брать: Зисельса арестовали, моего близкого друга Виктора Монбланова, и пошла волна защиты близких друзей и единомышленников. Монбланов не состоял ни в каких организациях. Но в свое время он не принимал эту систему. И прежде всего, с позиции ее жестокости, ограничения личных свобод, хотя правозащитником его никак не назовешь. Он в прошлом был однокурсником в мединституте, потом работал на киностудии, был ассистентом режиссера в научно-популярных фильмах. И вот в 1978 году он по собственной инициативе, мне ничего не говоря, вышел в белом плаще на центральную площадь Киева – это было 30 или 31 декабря 1978 года – зашел на ступеньки почтамта, и там обратился к людям, он держал в руке кружку: сбор пожертвований для политзаключенных. Он выступил с коротким спичем о том, что в России всегда была традиция поддерживать тех, кто находится в заключении. И предложил людям жертвовать средства в пользу поддержки узников совести и добиваться их освобождения. Когда он это говорил, какой-то человек – потом выяснилось, что это отставной офицер – подошел и закричал на него, что узники совести есть в Америке, а у нас никаких узников совести нет, ударил его по лицу, и тут же приехала милиция, все перевернули, представили, что это он дрался, его посадили за хулиганство на пять лет и отправили в психбольницу, где я его навещал. Сначала он был в открытой части, а потом его перевели в «крытку». Дальше его отправили в лагерь. Из лагеря он вышел через 4,5 года. И опять вышел на площадь, уже в защиту Юрия Орлова. И опять его посадили. И так он и сидел около 9 лет, до самой уже амнистии политзаключенных. Арестовали Иосифа Зисельса из моего близкого круга. Он был правозащитником, сегодня занимается и еврейскими делами. На суд мы собрали все, что услышали на суде, подготовили книгу. Главное отличие Киева от Москвы – в Москве были корреспонденты. Поэтому все безобразия, которые творились в Москве, о них можно было сразу сообщать корреспондентам. Из Киева можно было сообщать либо с оказией, через друзей, либо по телефону. Если что – я сразу шел в телефонную будку и звонил Великановой. Вот и все. Ничего интересного здесь больше не было. Несколько раз меня избивали. Когда баптистов преследовали и сажали, я их немного «патронировал». И как-то я с женой и с Олей Гейко-Матусевич шел к ним на собрание. И за нами было нескрываемое сопровождение из гебистов. Мы вышли в проходной двор между двумя улицами. Зима была, снег, за нами эта группа гэбистов. И тут они почему-то отрываются. Оказывается, эта группа из 4-х сотрудников ГБ отошла в сторону, где бегал какой-то молодой человек, делая вид, что он боксирует, бросает снежки. Мы идем через пустое поле, и вдруг ко мне сзади кто-то подбегает, сбивает меня – а это, оказывается, этот парень, который снежки бросал, – и бьет меня коваными ботинками. И все норовит в голову, в висок, но не попал. Тяжелых увечий не было, потому что моя жена кричала и била его тяжелой Библией, которая была у нее в сумке. Он бил-бил, потом бросился на нее, я вскочил, тут люди подошли, и все закончилось. Но в тот раз меня довольно сильно избили. В другие разы били потихоньку, несильно. Иной раз едут в машине гебисты, выходят и, не скрывая, начинают толкать, демонстрировать свое присутствие и свое всевластие. Вот такая была ситуация. В конце 1978 г. я вступил в УХГ вместе с Зисельсом и Миколой Горбалем. Это значит, что мы просто пошли и сообщили об этом Оксане Мешко. Она была тогда председателем, поскольку остальные сидели. Формальный глава Руденко был в лагере, а Григоренко был в эмиграции. Оля Гейко-Матусевич тоже вступила в УХГ (ее муж был уже в лагере). И был еще такой писатель-фантаст Олесь Бердник. Он жил в селе Гребени под Киевом, потом в марте он как-то приехал в Киев, и его арестовали. А накануне меня отправили по работе в командировку в Черновцы. Я был врачом-радиологом в Интитуте эндокринологии, и это была проверка эндокринологической службы западных областей. Меня и еще двух моих коллег поселили в отеле, но вдруг на другой день сообщили, что в наших номерах должен быть ремонт, и нас переселили в другой отель в центре города. Один из нас был родом из Черновцов, и он ушел со своим приятелем, вторым командировочным, к своему отцу. Я остался один. А мы жили так: я с товарищем в одном номере, а третий – над нами. Вот этот третий снимал номер вместе с довольно известным искусствоведом, который как раз читал лекции по искусству Ренессанса в Черновцах. И когда они ушли, ко мне вдруг спускается этот искусствовед с бутылкой румынского вермута. Пригласил к себе. У него картины, слайды. Я с большим удовольствием пошел, и мы просидели весь вечер, смотрели слайды, болтали. Когда мы вернулись в Киев, выяснилось, что у меня в это день провели обыск по делу Бердника. Этот обыск длился много-много часов. Обыск проводили несколько человек, а обыском руководил подполковник разведки. Он сказал, что этими делами не занимается. И этот подполковник разговаривал с моей женой, смотрел мои письменные столы, а там «открытым текстом» лежали книги Мандельштама, его жены, еще что-то самиздатское. Он посмотрел самиздат и закрыл. А там был один старший лейтенант, весьма активный, он как-то задерживал и обыскивал меня на улице, где жила Оксана Мешко. Вот он активно рылся, все хотел что-то найти, а подполковник сказал: «А здесь я уже посмотрел, все в порядке». Таким образом, они самиздат не забрали, но они забрали кассеты с песнями Галича. У меня не было кассетного магнитофона, поэтому я даже не мог их прослушать, так что я не знаю, что на них было. Это было 6 марта. Я, напомню, был в тот день в Черновцах. Через некоторое время меня вызывают в КГБ и допрашивают по поводу антисоветской деятельности, статья 62 УК Украины. Потому что в какой-то своей песне, запись которой изъяли у меня на обыске, Галича что-то довольно резкое говорит о КГБ. Ничего больше у них не было, поэтому они поговорили, попужали. Сказали: напиши заявление об отказе от деятельности Группы, а то посадим. Но не посадили. И такого было достаточно много. Таскали меня часто. На Подоле было отделение КГБ, я там целые сутки сидел. 10 декабря, в день прав человека, мы решили с друзьями организовать демонстрацию. Кто-то донес и утречком, перед тем, как мы собрались демонстрировать, нас взяли. Других ребят тоже позабирали. Тогда еще Зисельс был на свободе, это был, видимо, 1976 или 1977 год. И у всех они требовали подписать отказ от деятельности. Меня они еще и соблазняли: тогда вы будете доктором наук, мы знаем, что у вас готов материал на докторскую диссертацию. Вызовов на допросы, избиений и подобного становилось все больше, и мои друзья-эмигранты забеспокоились и прислали мне визу из Израиля, от какой-то женщины. Я ее не знаю. У меня есть еврейская бабушка по отцу, но это не дает права на израильскую визу. Так что это просто друзья прислали вызов из Израиля, чтобы он был. Посоветовали отнести его в ОВИР, и я отнес в ОВИР. На научную работу я не то что бы махнул рукой – но я махнул рукой на докторскую и на перспективу повышения в должности. И работать стало даже интересней. Поскольку я знал, что у меня никаких шансов академического роста, то я мог работать так, как я хочу. А я занимался тогда простагландинами – это было новое направление в медицинской науке, и появились у меня неплохие статьи, и они даже были опубликованы в Соединенных Штатах, но без каких-либо перспектив повышения по службе. Я как был и.о. старшего научного сотрудника – так и остался до увольнения с работы. И я понимал, что меня вот-вот арестуют и посадят. 6 марта 1979 года был этот большой обыск. А потом у моего товарища Марка Белорусца был день рождения. И я пошел к нему на день рождения. А я пью очень мало – и выпил тогда один или два бокала сухого вина. На день рождения пришел также Сережа Борщевский. Это переводчик с испанского, очень талантливый. В свое время был диссидентом, потом по делу Глузмана попал в КГБ, и потом его освободили. И все были уверены, что он стукач. И по всей вероятности, так оно и было. Судя по всему, он стучал на Некрасова, на Гелия Снегирева, которого арестовали и он погиб в заключении. Правда, уже перед смертью отправили в обычную больницу, Борщевский ходил к нему до последнего дня, никого больше, кроме жены, не пускали. Поскольку за мной была очень плотная слежка, друзья мне сказали, чтобы я хотя бы на полчаса остался после того, как все разойдутся. И все равно через некоторое время Сережа Борщевский вернулся и говорит: я недалеко от вас живу, давайте поедем вместе. И мы поехали с ним вместе, ехали в троллейбусе, о чем-то болтали, вышли из троллейбуса, идем к моему дому, – а мой дом в глубине двора. И он доводит меня до какой-то арки и дальше не идет. И говорит: все, я пойду домой. Только он ушел, я прошел через арку, дошел до своего подъезда, и вдруг из телефонной будки выскакивают два человека и начинают меня бить. Но несильно. А я уже понимаю, что это провокация, и кричу: «Это провокация!» и руки сознательно прячу за спину. А они бьют, провоцируют на драку. Тут же раздается стрельба из пистолета, из кустов выскакивает майор милиции Медведь, который неоднократно меня возил на допросы. С каким-то сержантом хватают нас, ведут куда-то, а он делает вид, что защищает меня защищает от бандитов. Заводят в милицию, записывают, а потом Медведь и говорит мне: «Пойдите возьмите свои вещи, потому что теперь вам конец, пять лет вам обеспечены». И я пошел домой, взял какие-то вещи, написал записочку родным (их не было в Киеве и телефона не было), и меня увели. Посадили меня в камеру, а ночью вызывают и говорят, что по показаниям этих двух людей я, оказывается, их избил, статья такая-то. «Видимо, вы в пьяном виде полезли драться». Но для того, чтобы доказать, что я был пьян,, надо получить соответствующую справку. И они меня сажают в машину и везут на Печерск в какое-то спецотделение, где есть аппарат, определяющий степень опьянения и автоматически выбивающий штамп на документе И вот эта машина бьет штамп: «трезв». Медведь прыгает: как так! Второй раз: «трезв». Несколько раз: «трезв», «трезв», «трезв»… Он с ума сходит, тащит меня назад. Ночью еще несколько раз вытаскивает меня, заставляет писать объяснения. Я пишу как оно есть. На следующий день меня везут в суд и дают 15 суток. Я сидел в центральном здании МВД города Киева. Нас водили убирать помещения. И интересно, что практически во всех кабинетах следователей висели портреты Сталина. Это было неожиданно тогда. Я видел, как они избивали уголовников – т.е. слышал, потому что они орали так, что слышно было на все отделение, а они потом при мне мочились в туалете кровью. Я сидел с уголовниками, среди них были такие, которые уже отсидели за несколько убийств. И в милиции требовали от меня, чтобы я докладывал, кто из них курит. Я сказал, что я не сексот и докладывать не буду. «Тогда поедете в другую тюрьму еще на 15 суток. А после месяца будет уже другой срок». Я объявил голодовку и сутки проголодал, после чего меня отвезли в другую тюрьму, где я и досидел положенное. У начальника тюрьмы, помню, в кабинете висела табличка за спиной – «до Олимпиады осталось столько-то дней». Так что это была уже предолимпийская чистка. Меня выпустили, но начальник предупредил: от него требовали меня не выпускать, потому что на меня готовится дело. И в это время моя жена в срочном порядке подписала письмо «К мировой общественности», и его отправили в Москву. Еще там была подпись жены Сахарова а, может, и самого Сахарова. И письмо о том, что УХГ превращают в хулиганов и наркоманов, очень скоро появилось в Европе в газетах. В это же время арестовали еще одного члена Хельсинкской группы Юрия Литвина. И он оказался в лагере. Но меня это письмо спасло. Когда я вернулся домой, меня уволили. Жену, которая заканчивала второй институт, выгнали из института. Ее потащили на допрос. А допрашивал ее Радченко, будущий министр внутренних дел уже независимой Украины. Он ей сказал: «С вашим мужем бессмысленно разговаривать, но у вас маленький ребенок. И если так будет продолжаться, мы арестуем вас, а ребенка отправим в детский дом. И пусть вам поможет мировая общественность». Тогда я немного испугался за семью. И отправил в ОВИР это письмо из Израиля. Это было в конце августа. А в сентябре меня вызвали – против меня, оказывается, было возбуждено уголовное дело о заражении гражданки Гумайло венерическим заболеванием. И положили на стол передо мной бумагу на украинской мове. Громадянка Гумайло пишет, что я заразил ее венерическим заболеванием в г. Черновцы «шостого травня». И на это есть свидетельские показания некоего искусствоведа. Так всплывает на горизонте тот искусствовед, о котором я уже рассказывал. Ведь как раз шестого марта в Черновцах, когда у меня дома в Киеве был обыск, я провел вечер с этим искусствоведом. Как потом выяснилось – мне сказали баптисты из сельхозакадемии – он вел у них искусствоведческий кружок и донес на нескольких баптистов. А раньше он доносил на Параджанова, которого обвинили в гомосексуализме. К сожалению, я не помню его фамилию. Помню, что на «ский» кончалась. И вот он готов был подтвердить, что я встречался с гражданкой Гумайло. А ребят как нарочно не было. Напротив гостиницы был парк. И выкрутиться из этой ситуации было бы невозможно, если бы гражданка Гумайло не написала в заявлении «шостого травня», т.е. шестого мая. А шестого мая я в Черновцах и близко не был. Она, видимо, переводила на украинский язык то, что было гэбистами от руки написано по-русски. И вместо «марта» она прочитала «май» и перевела соответственно. И это меня спасло в очередной раз. Но все продолжалось в том же духе. От меня все время требовали, чтобы я закрыл УХГ, ссылаясь на то, что Елена Георгиевна Боннер и Софья Каллистратова закрыли Московскую Группу. Пора, мол, и мне закрыть Украинскую. Оксана Мешко уехала в ссылку к своему сыну Сергею, который был где-то на Сахалине, и осталась там, потому что вода там все залила, и нельзя было улететь. И я был один за всю УХГ, больше никого не было. И ее требовали закрыть. А я не закрывал. Наоборот, написал письма в защиту Горбаля. А в это время появился Василь Стус. Мы с ним несколько раз встречались, и он на меня произвел впечатление рыцаря без страха и упрека. Мы написали письмо в защиту Горбаля. Я делом Горбаля занимался, нашел адвоката, известную в Киеве Софью Васютинскую. К сожалению, она его бросила в последний момент – видно, надавили, и она бросила. Его обвинили в попытке изнасилования. Дело было очень грубо сфабриковано, оно ничего не стоило. Тем не менее, он попал по этому делу надолго в лагерь. Тогда же Черновола, который был в это время в ссылке, обвинили в том же. Словом, всех нас превратили в хулиганов, насильников и так далее. Хорошо, что моя жена мне верила, и у нее никогда не было никаких сомнений. Но приходилось сдавать анализы, и дело на меня шло. И в декабре меня уже перестали выпускать из дома. К подъезду подъезжала машина, и как только я выходил из дому, меня окружали. В магазин мы ходили так: я, жена, коляска с ребенком и окружение из этих ребят. Это было нечто вроде домашнего ареста. За 9 дней до нового года гебисты ко мне приходят – я решил, что они меня забирают. А оказывается, они меня везут в ОВИР. И жена кричит, что и она с нами. Заходим в ОВИР. Начальник ОВИРа мне говорит, что «вы обвиняетесь в заражении гражданки Гумайло и если до 1 января не покинете страну, то дело против вас подается в суд». И тогда мы решились. До этого мы никуда не готовились, но решили, что все же уедем, потому как жена с маленьким ребенком… Но для того, чтобы уехать, нужна была куча всяких процедур. А я ничего не делаю. И меня эти ребята привозят в ОВИР и говорят, что вам надо пройти то-то и то-то. Я поехал в библиотеку, а там говорят, что начальника нет, приходите послезавтра. Я возвращаюсь в ОВИР, говорю, там начальника нет… Мне говорят, ну что же, пойдете послезавтра…Я тогда несколько растерялся, выхожу, жене говорю, мол видишь… А она: «Ну так мы никуда не едем». И меня как ударило: что же я перед ними кручусь! Возвращаюсь к начальнику и говорю: так я никуда не еду! После этого они берут машину, едут со мной по всем учреждениям, справки собирают – я даже не выходил из машины. И они меня за день подготовили. Мне надо было передать кое-какие материалы в Москву – самиздатские, об арестах, … А меня вплотную держат, одна машина у двери, другая на некотором расстоянии. А я выскочил через окно (у меня квартира была на первом этаже), взял билеты в Москву и приехал к Ване Ковалеву и его жене Тане Осиповой. Подписал там письмо вместе с чехами и поляками в поддержку Хартии-77. Помню, в этот момент позвонил Звиад Гамсахурдиа, которого только что освободили. И он извинялся и попросил Мальву Ланду, хотел объяснить, почему так получилось. Но Мальва Ланда не захотела с ним разговаривать. И пришлось мне слушать. А я человек вежливый и не ругал его. Потом, когда прошло много лет и я в Германии работал на Радио Свобода, а его избрали президентом Грузии, я брал у него интервью вместе с коллегой - Фатимой Салказановой, а Фатима Салказанова осетинка. И поэтому конфликт там был очевиден. Она очень жестко с ним разговаривала. А я в соответствии со стандартами радиостанции и правилами вежливости называл его «господин Президент». Все-таки его выбрали. И он меня тут же вспомнил и чуть позже объявил почетным гражданином Грузии. Хотя ни тогда, ни раньше я ему никаких индульгенций не давал, просто вежливо с ним разговаривал. Тогда, в конце 79-го, я передал в Москву все материалы, и потом мы гуляли по Москве с Ваней и Таней. И я говорил, как хорошо в Москве после Киева – никакого прессинга. Ну подслушивают, конечно, но это мелочи, а в Киеве мне приходилось постоянно бегать от них, так плотно они меня держали. Например, кошку у меня убили. Мы жили на первом этаже, а мой кот выходил гулять во двор, возвращался, сидел на балконе. Они там, видно, что-то в прослушках меняли, а он мяукал. А потом я нашел его с переломленным палкой черепом. Я вернулся из Москвы, уже началась Афганская война. Приезжаю я в Киев, остался один день до отъезда. 29 декабря. Не успел я войти в дом, опять те же ребята, сажают меня в машину, с женой, ребенком – поехали к начальнику ОВИРа. В комнате были начальник ОВИРа и Радченко. Начальник оставил нас с Радченко одних. Радченко начал мне говорить, как он меня уважает. Но, говорит, возникли проблемы, потому что первый муж моей жены не дает разрешения на вывоз сына. На сей раз вы меня уже не поймаете… «Тогда мы никуда не едем!» «Ну ладно, мы это все уладим. Надо бы поехать получить бумажечку». Вывел меня через другую комнату на улицу, там машина, в машине его начальник. Как его зовут не знаю. Они назывались все подставными именами. Радченко, которого зовут Владимир Иванович, и все это знали, он называл «Вася», а тот его как-то Петр Иванович, кажется… Это смешно, они играли в глупейшие игры. Радченко приходил и говорил, что он полковник, хотя все понимали, что по должности и по месту он капитан, максимум, майор. Особенно он на женщин любил производить впечатление. И производил. Многим он казался демонической фигурой. А на самом деле он довольно смешной человек, который краснел, как только его чуть-чуть что-то заденет. Так вот, его начальник перехватил инициативу и стал рассказывать, что мы едем в сторону Борисполя. Говорит, что вы никуда не улетите, мы сейчас в этом лесу вас убьем. А один наш друг Гриша Токаюк действительно был там избит за то, что отказался взять «торпеду» (т.е. жениться на еврейке, предлагаемой КГБ, чтобы уехать за границу). И меня тоже повезли по этим лесам – в лес завезут, выходи – будем бить. Нигде меня не били, просто выходили, стояли, потом говорили, мол, дальше поедем. И возили меня часа три из одного леса в другой. Потом говорят: вот видите, самолет полетел? Это ваш самолет. Там ваша семья. Такую вот несли чушь. И после 3 или 4 часов прогулок по лесам везут меня таки в Борисполь и ведут в ресторан, на второй этаж, там стол накрыт на 6 персон – а нас четверо, ждали, видимо, еще двоих, но те так и не приехали. И вот они мне начинают накачивать. «Мы вас очень любим. Если вы уедете, мы должны будем закрыть отдел. У нас маленький отдел правозащитников и его закроют, потому что Померанцева мы выпустили, он теперь на Радио Свобода, и нас всех закроют. Мы знаем, вы хороший врач, занимайтесь наукой, только, пожалуйста, не занимайтесь политикой. Знаете про Маркова? (А Марков это был болгарский диссидент, которого убили уколом зонтика). Так у нас таких способов много. Вот ты, Вася, ты ж бывал там, ты же знаешь, как это делается? – Конечно! Что зонтик – у нас есть травка, в шляпу положил, и никто не увидит». Несут такую чушь и накачиваются коньячком. А я сижу пью воду и слушаю. Потом, наконец, говорю: хватит, везите меня домой, я хочу знать, где моя жена. И они меня отвели к пограничникам в казарму, а там сидят полураздетые ребята и смотрят телевизор. Меня, сказали, никуда не выпускать, а сами ушли. Потом через какое-то время возвращается Радченко, а я ему начинаю говорить, что как же так, он называет себя полковником, а начальник с ним разговаривает как с последней шестеркой. И Радченко становится красным, как мак. Потом, в Украине я был советником президента Кучмы, а Радченко назначили министром внутренних дел, и я из-за этого ушел из администрации. Так там в приемной встретил одного знакомого из окружения Кучмы. И он меня спрашивает, почему меня давно не видно. Я отвечаю: ушел «вот из-за него» и показываю пальцем на Радченко, который сидит тут же. И тот опять покрылся красной краской. И как-то мы были в администрации вместе с политологом Погребинским, а там Радченко вместе с премьером Пустовойтенко. Погребинский подал руку обоим, я же Пустовойтенко подал, а от Радченко прячу руку за спину. И он опять покрывается красным. Стыдливый молодой человек… Словом, Радченко тогда, в конце декабря 79-го, сидел поникший, а тут его начальник приходит и говорит: что вы там в Москве наговорили? Ну тут уж точно вам конец! Меня опять в машину, опять везут в лес, а я говорю – ну хватит цирка, давайте везите меня домой, уже все понятно. Привезли меня домой, заходим, а начальник и говорит: я дед Мороз, привез домой вашего мужа. А жена показала на Радченко и говорит: а это, наверно, ваша снегурочка? И тот опять красный. В общем, они ушли, мы простились с друзьями и на следующее утро мы с женой, приемным сыном и дочерью уехали поездом в Чоп. Забыли взять с собой еду. С двумя чемоданами, мы ничего не собирали, приехали в Чоп, выяснилось, что забыли документы. Правда, подруга жены привезла эти документы. Нас в Чопе продержали до ночи и очень сильно обыскивали, раздевали девочку, а ей год и четыре месяца. Диссидентских фотографий несколько мы вывезли, а так больше ничего. Посадили нас в поезд. Поезд был пустой. В Черновцах на целый вагон была только наша семья (голодная, потому что сутки ничего не ели) и одна еврейская семья. Новогодняя ночь. Жена плачет. Слава Богу, она еще кормила грудью дочь. И мы вчетвером сидим в купе, расстроенные, что покидаем наше отечество. А ровно в 12 часов поезд остановился. 1980 год. Мы стоим на границе. Видна проволока колючая. И вбегают из соседнего купе евреи с шампанским – новая жизнь, все, мы на свободе! С Новым годом! На следующее утро мы приехали в Вену. |
|