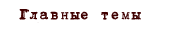
 |
|
Беседа с Владимиром Малинковичем. 60-е годы в Киеве.Часть 1
- Владимир Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о том времени, когда Вы приехали в Киев после исключения с Ленинградского юрфака. Каков был Киев тогда? Я вернулся в Киев после того, как меня исключили из Ленинградского университета организацию общественных беспорядков в общежитии юридического факультета в 1961 году. Сначала меня направили поработать рабочим в расчете на то, что меня через какое-то время восстановят - так сказать, «на трудовое перевоспитание». Но потом меня отказались восстановить, и в том же году я поступил в Киевский мединститут. Атмосфера здесь была абсолютно непохожей на ленинградскую. Студенческий контингент был весьма специфическим: большинство мальчиков, т.е. большая часть студентов мединститута, это ребята из села, которые прошли через армию, а в армии, в свою очередь, проходили через всевозможные комсомольские организации, т.е. это были комсомольскими активистами. Очень небольшое число ребят, а также почти все девочки – это были дети киевской элиты, либо профессорской элиты, либо партийных и государственных руководителей Украине. В частности, со мной на курсе учились дочь Подгорного (он тогда был Первым секретарем ЦК КП Украины, а потом возглавлял Президиум Верховного Совета СССР), дочь министра внутренних дел и много дочерей других украинских начальников. Таким образом, у нас учились, с одной стороны, крестьянские дети, а с другой – «золотая молодежь». И взаимопонимания между ними складывались не очень удачно. И те, и другие боялись активно обсуждать общественные проблемы. В общем, атмосфера там была достаточно серая. - А чем жила эта «золотая молодежь»? Ничего кроме развлечений у них не было. И это касалось не только «золотой молодежи», но и самых разных социальных групп. Какие-то посиделки студенческие, выпить-потанцевать – это было. Но больше ничего. Никаких серьезных разговоров на общественные темы почти не было. За редким исключением. Словно табу было наложено. Это была полная противоположность тому, что было в Ленинградском университете, где день и ночь, и на лекциях, и после лекций, и после полуночи, и под водку, и без водки мы все обсуждали острейшие проблемы страны и мира. - А вот почему, интересно? - Провинция. - Или, может быть, боялись сурового Украинского КГБ? - Да нет, в те времена было не очень страшно. Во-первых, провинция, во-вторых, я нарисовал, слой каких детей там был. В Ленинград со всей страны съезжались люди с амбициями. Самые разные, разночинцы. А здесь – дети элиты, министерские дети, которые уже привыкли помалкивать (их этому учили с детства) и вчерашние крестьянские парни, хорошо знающие, что если они шагнут куда-то в сторону – пропал Киев и придется вновь грязь в деревне месить. Да и мединститут – это не юрфак, где я до этого учился, т.е. общественные проблемы у медиков не на первом месте. Поэтому с точки зрения общественных проблем в этой среде было невероятно скучно. Хотя вчера на презентации был такой Олег Кульчицкий, мой однокурсник, он как раз вроде бы о чем-то говорил, но ведь он - сын профессора Кульчицкого. Его отец, Костя Кульчицкий, мальчиком играл, кажется, Тома Сойера в кино. А потом был одним из самых блистательных профессоров у нас в мединституте. Конечно, профессорские дети несколько выделялись в лучшую сторону. Но, в принципе, атмосфера была затхлая. Очень неинтересная атмосфера была. Но в целом, Киев была тогда веселым и жизнерадостным. Но, в основном, это касалось быта и развлечений. В Киеве был такой Зеленый театр, и когда приезжали гастролеры из-за рубежа, то весь Киев шел через Крещатик и Парковую аллею туда – в этот театр. Веселый, жизнерадостный город: футбол, джаз, музыка. И почти никаких общественных проблем. Хотя сказать, что вообще никаких, все-таки нельзя. Какие-то очаги на этом сером фоне были в Киеве. И мне повезло, что я оказался в среде творческой элиты. Моя первая жена окончила юрфак (тот самый ленинградский, с которого меня выгнали) и приехала в Киев на практику. Проходила практику у одного из лучших советских адвокатов Марселя Павловича Городисского. Он был не только адвокатом, он читал в университете курс ораторского искусства и был еще завлитчастью театра Леси Украинки. В свое время он был актером и режиссером . Еще в 1918 году он ставил первый советский спектакль («Фуэгте овехуна» Лопе де Вега) в бывшем соловцовском театре и, конечно же, в нем играл. В середине шестидесятых в его квартире собиралась художественная элита, причем не только из Киева. В частности, там я познакомился с Виктором Платоновичем Некрасовым, который также в свое время был актером и имел много друзей среди актеров, с Олегом Борисовым, с сыном и отцом Лавровыми (Лавров-отец работал в этом театре, а сын Кирилл к нему тогда наезжал). Раз в неделю или в две мы собирались в квартире у Городисского и говорили много и о разном. У Марселя Павловича была прекрасная библиотека, он великолепно читал стихи, голос у него был потрясающий. Часто к нему в гости приезжали друзья – и адвокаты, и актеры - из Москвы и Ленинграда. В частности, к нему приезжал Дмитрий Журавлев, достаточно интересный человек, который привозил в Киев тогда еще запрещенных Мандельштама, Цветаеву. Бывал у Городисского и ленинградский адвокат Киселев, защищавщий в суде репрессированного сына Анны Ахматовой – Льва Николаевича Гумилева, лекции которого, мне довелось слушать в Ленинграде в конце пятидесятых. От Журавлева и Киселева мы узнавали много подробностей из жизни людей, окружавших Ахматову, с которой они были дружны. Самиздата практически не было. Он появился позже, во второй половине 60-х годов. Но зато у Городисского и его друзей было много книг, изданных до революции или в 20-е годы, а потом запрещенные. Первые диссидентские акции состоялись, как ни странно, в нашем «скучном» мединституте. В 1963 году, если не ошибаюсь, там был вечер памяти недавно скончавшегося украинского поэта Васыля Симоненко. Он был, пожалуй, первым украинским диссидентом. Поэтом Симоненко был не очень сильным, на мой взгляд, но он всей душой болел за Украину. Кажется, у него был туберкулез, и он очень рано умер. И хотя мединститут был совершенным болотом, но Виталию Коротичу, который его к тому времени уже, кажется, окончил, удалось организовать там этот вечер. И уже после этого, после 1963 года, пошли еще такие встречи и вечера. Встречались, как правило, на квартирах, у художников в мастерских. Я бывал не некоторых из этих встреч, но, честно говоря, мне там было не очень интересно. Я никогда не симпатизировал националистическим идеям, а эти люди были откровенными националистами с самого начала. У них была свая тайна, и касалась она ОУН и «бандеровщины». Т.е. на самом деле связи с ОУН у них никакой не было, но было настроение, что бандеровцы – это были «наши». А мне это чуждо. Поэтому я с ними никогда не был близко связан. Был среди них, правда, один интересный человек - Иван Михайлович Дзюба. Он никогда не был радикалом, дружил с людьми самых разных взглядов, и это его связывало с Параджановым, с Некрасовым, со многими другими представителями художественной элиты Киева. Вы знаете, наверное, что фильмы киевская студии Довженко сравнивали с индийским кино. Уровень этих фильмов был очень низким, просто на нуле. До параджановского фильма «Тени забытых предков». В период с 1963 по 1965 проходит процесс нарастания националистических настроений в украинской интеллигентской среде. Я не раз ходил на встречи к памятнику Тарасу Шевченко 22 мая, в годовщину перевоза праха Шевченко в Канев через Киев. Но сказать, что я был близок с людьми, которые там собирались, я не могу. Кроме того, в это же время, в середине 60-х, начинает проявлять себя еврейское движение. И появляется еврейский тамиздат. - Движение «За выезд в Израиль»? - По сути, еще не было выезда в Израиль. Это движение началось после «шестидневной войны». А тогда это было движение за восстановление памяти о жертвах нацизма, связанное с Бабьим Яром. И такие массовые акции с требованием поставить памятник жертвам нацистских расстрелов проходили каждый год, начиная с середины шестидесятых. 29 сентября 1966 года отмечали 25-ю годовщину расстрела евреев в Бабьем Яру. Выступал и Дзюба, и Некрасов. И я был там, мы, помню, держали свечи, кричали: «Дайте слово русскому поэту Виктору Платоновичу Некрасову!» Но все это не имело антисоветского привкуса. Это было лишь стремление подправить дефекты той системы. В частности, мы хотели установить мемориальную доску на булгаковском домике. Я собирал подписи, ходил по разным комитетам, хотел, чтобы все было официально. Мне показывали папки с аналогичными просьбами (там, кстати, было письмо известного певца Гмыря, к тому времени уже покойного) и отвечали приблизительно одно и то же: «Еще у многих украинских советских писателей и художников нет памятных знаков, вы со свои Булгаковым. А он, между прочим, советскую власть не очень любил, да и Украину не жаловал». Словом, официально не получилось. И тогда мы договорились с Виктором Некрасовым о том, как все же заставить власти установить памятную доску. Как раз на одной из встреч в Бабьем Яру, кажется в 1967 году, мы придумали «операцию», в общем-то авантюрную. В Киев на гастроли должен был приехать МХАТ и ставить «Дни Турбинных». Некрасов был знаком со многими актерами и режиссерами этой труппы и согласился привести ее к домику Булгакова на Андреевском спуске. (У него в «Новом мире» незадолго до этого вышел очерк об этом доме - это было одно из первых упоминаний об доме Булгакова в советской печати). И план состоял в том, что когда они придут, возле двери уже будет висеть памятная доска. Такую доску я подготовил. Вместе с товарищем выцарапал на доске несколько строчек: «Здесь жил выдающийся.…» и т.д. Я рассчитывал, что знакомый Некрасову киевский корреспондент «Советской культуры» сфотографирует известных всей стране актеров на фоне этой доски. А когда появится фотография в газете, киевские власти, как я надеялся, вынуждены будут повесить настоящую доску. Но Виктор Платонович, как всегда – у него был такой грех – забыл. А тогда я засел в засаде в кустах напротив дома - повесил табличку и жду. Некрасова все нет. Где-то через час вижу: снизу, с Подола, по Андреевскому спуску идет участковый милиционер с папкой. Прошел мимо домика, свернул наверх. И тут ему что-то стукнуло в голову - он развернулся, зашел в дом, о чем-то поговорил с дочерью Василисы (она тогда еще жила там на первом этаже), вышел, снял эту доску и унес ее под мышкой куда-то наверх. На том вся история и закончилась. Много позже, в эмиграции, я встречался с Некрасовым в Париже, в кафе на Монпарнасе, и рассказал ему об этом эпизоде. Он каялся и долго хохотал. В общем-то, шестидесятые годы были довольно веселыми, правда в самом конце того десятилетия стало основательно подмораживать. - Вячеслав Игрунов не раз говорил мне о Вашем увлечении генетикой в те годы. Действительно ли это так и как это было возможно в эпоху, когда генетика считалась "лженаукой"? Кто занимался в генетикой в Киеве? - Когда в 1961 году я поступил в Киевский мединститут, курс биологии нам читала убежденная сторонница Т. Д. Лысенко. Настолько убежденная, что в 1948 году она на почве идейных разногласий разошлась с мужем (он был известным ученым-генетиком и тогда его не арестовали, но запретили заниматься наукой - он работал садовником в ботаническом саду АН). Но в начале шестидесятых генетику уже не считали «лженаукой». Напротив, наша завкафедрой биологии считалась в то время «белой вороной» - время при Хрущеве радикально изменилось. В 1962, кажется, году вышла «Общая генетика» Николая Дубинина, вскоре появились статьи о работах Крика, Жакоба и Моно, а затем масса других книг и статей по этому разделу биологии. Прочитав Дубинина, я не на шутку увлекся генетикой, и стал искать в Киеве тех, кто ею занимался до 48 года. Мне повезло: со мной на курсе учился Миша Пинчук, а его мать – этническая немка – была дочерью профессора Штуцера, обнаружившего возбудителя дизентерии. (Любопытно: мы в институте изучали шигеллу Шмиц-Штуцера, а прах первооткрывателя этой шигеллы лежал в банке, спрятанной под диваном, на котором спал Миша Пинчук - его все еще не разрешали захоронить. Очень необычными были те времена). Сестра матери Пинчука была замужем за выдающимся генетиком Тимофеевым-Ресовским. В тридцатых-сороковых он работал в Германии, затем был арестован и только после ХХ съезда вышел из концлагеря. Когда Тимофеев-Ресовский с женой гостили у Пинчуков, Миша пригласил меня в гости, и мы долго (несколько часов подряд) беседовали обо всем на свете. Николай Владимирович был человеком явно незаурядным. Он абсолютно свободно излагал свои взгляды, не заботясь о том, какое впечатление они производят на окружающих. Будучи христианином, он в то же время высмеивал вегетарианцев, называя их «жвачными», и говорил, что мясо надо подавать к столу обязательно «с кровью». Евгеникой в Германии он занимался явно не случайно. Он буквально шокировал меня, сказав, что всех уголовников, с которыми ему довелось сидеть (одновременно с Солженицыным, кстати), следовало бы «газировать». Я не поверил своим ушам, переспросил, а он твердо повторил: «уголовников надо газировать». Потому, де, что склонность к совершению преступлений передается по наследству. Ничего себе христианин! Тем не менее, Тимофеев-Ресовский, несомненно, был очень умным человеком. Он обсудил с нами несколько актуальных генетических проблем и познакомил с известным в прошлом киевским генетиком Сергеем Михайловичем Гершензоном (он тогда еще работал в Институте зоологии простым лаборантом). Ресовский предложил нам проверить полученный тогда в лаборатории в Обнинске, где он тогда работал, препарат, останавливающий митоз, для того, чтобы зафиксировать на фотопленке кариотип человека. Мы, трое студентов мединститута – Миша Пинчук, Оля Хименко и я, последовали совету Ресовского, провели эту работу и получили-таки фотографию хромосом человека (кажется, первые в СССР), правда плоховатого качества. В 1964-65 годах генетика уже была в моде. Гершензон прочитал довольно большой курс генетики для ученых АН Украины, который я с друзьями прослушал. Кроме того я посетил несколько практических занятий по генетике, которые тогда ввели на биофаке университета, но там учиться было нечему – преподаватели были знакомы с работами по генетике не лучше нас. В 1965 году в Киев приехал бывший директор Архангельского мединститута Дышлевой. Генетики он совсем не знал, но чуял, что это дел перспективное. Он и организовал первую в Киев лабораторию медицинской генетики при Институте акушерства и гинекологии. Гершензон рекомендовал ему заняться проверкой на мутагенность медицинских препаратов, чаще других используемых беременными (это, напомню, происходило вскоре после того, как в США и Европе у беременных, регулярно получавших талидамид, начали рождаться дети с изуродованными конечностями). Для начала мы проверили на дрозофилах мутагенность аспирина. Для опытов нам выделили каморку в вестибюле института и совсем немного денег для покупки нужных ингредиентов корма дрозофил. Необходимые бананы мы заменили более доступным в Киеве изюмом, а в манной крупе и всем прочем недостатка не было. Не хватало пробирок, и мы заказали их на стеклотарном заводе. Ящики для пробирок сколачивали сами, вместе с Дышлевым. Впрочем, в его лаборатории все все делали сами – это была команда энтузиастов. Работали бесплатно, засиживались в холодной лаборатории, обогреваемой самодельными электроприборами, допоздна. Кто-то, разумеется, надеялся таким образом сделать карьеру, но главным образом нами руководила вера в научный прогресс. Опыты с аспирином оказались успешными – т.е. мы подготовили статью, в которой на достаточно большом материале доказали, что добавление аспирина в питательную среду дрозофил не дает статистически достоверных отклонений у потомствах принимавших корм мух. Дышлевому понравилось, и он решил проверить на мутагенность сразу двадцать наиболее известных препаратов. В то время во всем мире проверено было лишь чуть более десятка лекарственных препаратов, и Дышлевой явно нацелился на мировой рекорд. Ученый он был никакой, зато амбиций было более чем достаточно. Я пытался его отговорить от этой затеи, но безуспешно. К столь масштабным работам мы явно не были готовы. Тем более, у дрозофил началось какое-то сезонное заболевание (в этом разбирался только Гершензон, мы же были абсолютными профанами), что серьезно затрудняло наши исследования. Через какое-то время болезнь прошла и дрозофилы стали очень активно размножаться. И мы, в основном, занимались тем, что били все новые и новые ящики – вся наука сводилась к поиску достаточного количества досок. В конце концов, удержать дрозофил в нашей коморке не удалось, и они разлетелись по всему институту. Напротив нашей коморки был буфет, куда часть мух постепенно и переместились. Пошли жалобы. В институте должна была состояться какая-то международная конференция, и наши мухи стали серьезным препятствием для ее проведения. Опыты прекратили. Таким вот смешным и печальным образом и завершилась вся наша история с плодовыми мушками. Дышлевой вскоре возглавил кафедру генетики в мединституте, а меня, помимо моей воли, забрали военным врачом в армию. Через три года, когда меня выгнали из армии, я пытался устроиться в лабораторию генетики в Институт геронтологии, но меня не взяли - к тому времени моя политическая биография оказалась уже весьма подмоченной. На том и закончились мои взаимоотношения с генетикой. Жизнь потекла по другому руслу. Продолжение следует. См. рассказ В.Малинковича "Как меня высылали из СССР" Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



