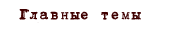
 |
|
Ответы на вопросы П.Бутова. Часть 2
1. Моя первая цель теперь – привязать Ваши ответы к определенному времени. Прошло 30 – 40 лет с тех пор, когда мы формировали свой внутренний мир. Внешне мир очень изменился. Поэтому мне кажется важным задать следующие вопросы: Был ли у Вас любимый писатель или писатели того времени? Ходили ли Вы в театр? Какие фильмы Вам запомнились?
Разумеется, очень много читал французскую литературу. Я учился в одной из лучших французских школ Москвы, кроме великолепного курса языка, у нас в течении трех лет был экспериментальный курс французской литературы. По идее, мы должны были всю литературу читать на языке оригинала. Но по свойственной мне лени, безалаберности и отвращению ко всему «школьному – обязательному» я все читал (если читал!!) по-русски. По-французски прочёл только «Преступление в Орсивале» Лекока и «Большой Мольн», да и то с превеликим трудом. В школьные годы моим кумиром был Виктор Гюго. Я прочел (и не единожды) «Отверженные», «Труженники моря», «1793», «Человек, который смеётся». Сегодня я поражаюсь, как мне удавалось преодолевать стостраничные риторические пассажи без всякого действия, эти бесконечные длинноты и отступления. Но в 14 лет именно эта пышная, театральная, «вопиющая» (так Флобер о себе говорил, но ему, конечно, до Гюго далеко) романтика меня завораживала, очаровывала и затягивала, и ничего другого мне от книги было не надобно. Помню почти наизусть эпизод из 3-го тома «Отверженных». В. Гюго подробно описывает восстание парижских студентов и люмпенов в 1934г. И вот группа восставших окружена где-то на Галлере, а снизу их атакует взвод солдат под командыванием молодого офицера. И вот, командир восставших, идеальный романтический герой, рыцарь революции без страха и упрека, который пошел на баррикады, чтобы погибнуть и освятить дело свободы своей жертвой, замечает внизу этого офицера. Он понимает, что офицер толково и быстро подаёт команды, и что скоро солдаты их перестреляют. Единственный шанс спастись для восставших – это убить этого офицера и тем дезорганизовать солдат. И вот наш герой (Амфортрас?) начинает прицеливаться и одновременно вглядываться в лицо своей будущей жертвы. И он видит своего двойника: такого же молодого, красивого, полного сил, готового на подвиг и т.п.. И Амфортрас говорит, спуская курок: «Я убиваю тебя, брат мой, во имя всеобщей и всеискупающей любви! Я люблю тебя, брат мой!». И в момент, когда он стреляет, слеза скатывается у него по щеке. Эта сцена произвела на меня жуткое, завораживающее, мистическое впечатление. Когда я это прочитал, мне было 13- 14 лет. Я просто бредил этим, воображая как я спускаю курок. Но я видел себя и убитым, и это не было страшно, это было прекрасно: отдать свою жизнь ради Великого Идеала. В этой сцене есть очень сильный садо-мазохистский колорит. Это именно романтизация революции во всем её кровавом ужасе. А кроме того, этот образ прекрасного, как греческая статуя юноши, это очень эротичный, влекущий образ. И вот этому кровавому романтическому пафосу я очень поддавался. Из французских писателей читал ещё Стендаля, «Пармскую обитель», потому что там было много исторических реалий. Из Оноре дё Бальзака с огромным удовольствием прочёл только «Шуаенов», потому что этот роман основан на реальных событиях вандейского мятежа. «Шагреневую кожу» и «Люсьена дё Рюбампре» прочел с интересом, но запомнил плохо, потому что это беллетристика. Трилогию Дюма тоже не раз прочел, именно потому, что это тоже были для меня первые книги об истории Франции. А вот «Мадам Бовари» Г. Флобера одолел с трудом. Это книга о чувствах, о личных отношениях, а это я не понимал и не чувствовал. Из поэтов немного читал Рембо, Бодлера, но совершенно не понял их языка. Так что мое знакомство с французским поэтическим текстом дальше Мольера и Расина не идёт. Из русских писателей тоже предпочитал исторических романистов: В. Яна, К. Язвицкого, Г. Данилевского. Из интереса к истории прочел «Войну и мир». Кроме батальных сцен мало что там понял. Не понимал Пушкина и обожал Лермонтова. «Дума», «На смерть поэта» были мои любимые стихи. Под влиянием А. Каплина (уже в середине 70-х) увлёкся Ф. Абрамовым и вообще «деревенщиками», но ни одно из произведений Абрамова вторично не прочел. Вообще, А. Каплин был для меня образцом эстетического вкуса. Так до встречи с ним я не был фанатичным поклонником М.A. Булгакова и не очень понимал, на чем основано его устойчивое реноме гения. Но под влиянием Каплина перечёл «Мастера», «Театральный роман», «Белую гвардию», «Собачье сердце», всю раннюю прозу, прочел уже с «презумпцией гениальности», и обнаружил то, что искал. Особенно сильное впечатление произвела «Белая гвардия», опять же - историчностью. Весной 80-го мы с А. Каплиным поехали на неделю в Киев, «по турбинским местам». Достали где-то дореволюционную карту Киева и прошли весь маршрут, по которому поручик Турбин убегал от петлюровцев. Но и тут реалии гражданской войны волновали меня сильнее, чем особый булгаковский мир. Очень хотелось понять ту эпоху и, вообще, революцию. А. Фадин посоветовал «Нетерпение» Трифонова, «Две связки писем» Ю. Давыдова, ещё что-то про народовольцев. Понятней не стало. А. Фадин прстрастил и к латино-американской прозе. Он открыл мне Габриэля Гарсия Маркеса, Хулио Кортосара, Алехо Карпентьера, Отеро Сильва, Марио Варгеса Льоса и многих других. Своей выспренностью, романтическим пафосом, легкостью и дозволенностью крови это немного напоминало атмосферу революционного подполья в Париже времён Июльской монархии, воспетую В. Гюго и атмосферу народовольческого подполья России, воспетую Ю. Трифоновым, Н. Эйделманом, Ю. Давыдовым. Но я уже стал на десять лет старше, и меня это уже не гипнотизировало. Тем более что, я отлично понимал, до какой степени все это «не работает» в Совке конца семидесятых, в том числе и в нашем кружке. Но как расширение литературного кругозора это было небесполезно. Драматического театра никогда не знал и не понимал. В этом плане девственно невежествен. Кино очень любил. Года четыре ходил сам и доставал друзьям билеты в клуб «Красный текстильщик» (Филиал «Иллюзиона»). Любил фильмы 30-40-х годов: Рене Клера, Ренуара, Орсона Уелса, Хичхока. Из советского кино обожал Тарковского. «Андрея Рублева», «Сталкера», «Зеркало» смотрел по многу раз. Когда вышел в прокат фильм «Иваново детство» мне было лет десять. Мы смотрели его с мамой. Там есть такой кадр: крупным планом показаны тела двух разведчиков, повешенных немцами. Кадр очень короткий, несколько секунд. Но я и сейчас помню эти два тела, застывшие на земле в противоестественной позе, позволяющей безошибочно отличить смерть от сна. И несмотря на краткость (благодаря ей?) этот кадр произвел на меня жуткое, пугающее впечатление. Я отвернулся от экрана и даже пытался залезть под сиденье. Это было некое первое прикосновение к смерти, первый соблазн и первый ужас смерти. Похожие чувства я испытывал при чтении упомянутой сцены из В. Гюго, но кинематограф сгустил и усилил их до концентрации истерики.
2. В 1968 году Войска Варшавского договора оккупировали Чехословакию. Полагали ли Вы, что в результате этого действия в Союзе может быть восстановлена диктатура? Скорее это была некая индиция, что такая диктатура уже существует. Мне было 14 лет, и я до этого просто не очень точно отдавал себе отчёт, что происходит. А 21 августа, как я уже писал, сыграло в моей жизни огромную роль. Я понял, что мы действительно живём в диктаторском государстве, и что просто игнорировать, «не замечать» этого я, скорее всего, не смогу. Я не думал о том, что в будущем в СССР может быть «восстановлено» что-то худшее, чем уже существующая диктатура. Наша реальность для меня уже была самым худшим из всех возможных вариантов для нашей страны, и я старался спрогнозировать, что может прийти на ее место. И всегда получалось что-то лучше, чем то, что есть, не так «застойно». Конечно, это наивно, надо всегда учитывать и самый худший вариант. Но мне было 14 лет, и мне казалось, что повторить «пражскую весну» в Москве это вполне реальная задача. Прага, её атмосфера весной 68-го, её молодежь, её совершенно западный образ жизни, все это после рассказов С. Белинкова, стало для меня тем образом, которому СССР должен был следовать. Но особенно меня потряс пражский студент Ян Палах, который сжег себя в 1969 году на Вацлавской площади в знак протеста против Советской оккупации. Он стал моим кумиром, я просто бредил им, стараясь узнать у Сергея и где только мог о его судьбе. Мне казалось, что если бы несколько молодых людей сделали то же самое на Красной площади, то и у нас началась бы «весна». Я очень верил в огромный потенциал личной жертвы. В этом смысле, Л. Богораз, Файнберг, Бабицкий и другие были для меня Героями. Но при этом знал я об этих мужественных людях очень немного, да и интересовался ими меньше, чем тем, что происходило в Праге в первые два года после оккупации. Для меня 21 августа означало не ту или иную фазу в политическом развитии СССР, а то, что СССР совершил некое публичное и неоспоримое непотребство по отношению к маленькой стране, и все мы, в том числе и я, так или иначе, несём за это моральную ответственность. В этом смысле поведение героической пятёрки 26 августа на Красной площади было для меня внутренне вполне оправдано и понятно. До того понятно, что я скорее склонен был удивляться, почему их было не 500. Разумеется, задавая такой вопрос, надо и самого себя спросить: а ты почему там не был? И в этот момент я начал себе такие вопросы задавать.
3. Пытались ли Вы понять логику принятия политических решений, которые принимало Политбюро? Пытались ли Вы понять логику Генерального Секретаря КПСС? Нет, не пытался. Вообще, я никогда не разделял Политбюро, Ген. Секретаря, КГБ, МВД, ЦК, министерства, Академию и т.п.. Для меня существовала некоторая недифференцированная Система, некий Мордор (Толкиена я прочел, конечно, намного позже, но его образы очень подходят для моих юношеских ощущений), с которым надо бороться, как с целым. Возможно, Саурон и девять королей не всегда между собой согласны, но это меня не волнует. Все равно, это были «Силы Тьмы», и с ними надо бороться, и логика у них соответствующая: «логика наоборот». То, что для них самое лучшее решение, для России, объективно, будет самым худшим. Мне казалось очень странным, что С. Белинков, а позднее и А. Каплин думали совершенно по-другому, и очень много и охотно говорили об интригах в верхах, о которых они знали от своих весьма сановных родителей. И мне было скучно, когда они говорили, что издание какой-то Книги тиражом 2.000 экземпляров с тремя осторожнейшими намеками или смена помощника Ген. Сека, это эпохальное событие, которое повлияет на историю страны. Сам Г. Остроумов, считавшийся едва ли не самым либеральным из помощников Брежнева, в личном общении производил впечатление человека нарочито, напоказ фальшивого, «слова в простоте не скажет», этакий ходячий экземпляр «Правды». От общения с ним осталось впечатление, что наши «верхи» прогнили безнадежно, и что там просто бессмысленно что-то ещё искать или анализировать.
4. Вас больше тревожили идеологические проблемы или политические? Насколько Вы связывали политическую систему и идеологию? То есть, были ли Вы недовольны только идеологией или Вы считали, что система принятия политических решений должна быть изменена и Вы представляли, как она должна быть изменена? Идеологические. О политике, как о «технологии власти» не думал вообще. Я не ставил вопроса о связи Советской Идеологии как отдельного, теоретического вопроса. Я был твердо убеждён, что имперская, чванливая идеология («Третий Рим» в красной редакции) – это корень всех бед, и что на её разоблачении надо сосредоточиться. Мне казалось, что если будет найдено («изобретено») такое Идейное движение, которое поднимает молодёжь, интеллигенцию и пр., то прикладные политические проблемы, т.е. Переход власти в другие руки, решаться, так или иначе, подобно тому, как они решались в январе 68-го в Праге. Как уже указано, мои друзья (и до «Вариантов», и, особенно, в период «Вариантов) так не думали. Их, как раз, технология принятия решений наверху всегда интересовала. И мы об этом очень много спорили в школе - с С. Беленковым, в институтские годы с тем же и с А. Каплиным. Они считали, что получив возможность реально влиять на принятие решений, можно очень сильно изменить политический курс, реальное наполнение властного механизма, ничего не меняя в идеологическом антураже. Я в это никогда не верил.
5. Хотелось ли Вам открыто высказаться, вступить в диалог с системой или Вы начали с того, что признали систему неестественной и неприемлемой и пытались создать свой мир? Было ли у Вас желание написать, например, «открытое письмо Вождям Советского Союза»? Несмотря на все вышеизложенное, на практике я оставался еще долгое время лояльным советским гражданином. Не то что б я пытался вступить в диалог с Системой на макроуровне, но появлялось иногда ощущение, что на микроуровне, в своём классе, на потоке, в отделении, в лаборатории я смогу что-то полезное сделать. Отсюда мое постоянное членство в бюро комсомола (на потоке а потом в отделении ИГД), и всегда в должности культорга. Я организовывал какие-то вечера, доставал билеты в «Красный текстильщик» для нашего потока, приглашал каких-то артистов и пр. Но не в порядке «диалога с системой», а просто, как развлечение для своих сокурсников и сотрудников. Я понимаю, что это очень нелогично. И тогда это понимал, и от этой раздвоенности у меня было сильное чувство нравственной фальши, несостоятельности моего существования. Поэтому для меня «Варианты» стали, на какое-то время, решением моей личной проблемы. Теперь я имел право говорить себе, что моя показная совково-комсомольская лояльность это не просто приспособленчество. Это теперь разумная конспирация, необходимая и предписанная мне моими товарищами по борьбе. Попытки «диалога с системой» в узком смысле этого слова тоже были. Так, осенью 77-го обсуждался проект новой Конституции. Во всех лабораториях проходили обязательные собрания. Выступал завлаб или секретарь партбюро, ещё два-три заранее назначенных, и потом единодушно голосовали. На собрании у нас в лаборатории я вдруг попросил слова, и к полной оторопи всех присутствующих сказал, что ст. 2 Конституции, декларирующая, что вся власть принадлежит народу, находиться в противоречии со ст. 6, где говориться, что КПСС определяет основные направления внутренней и внешней политики, направляет деятельность административных и хоз. Учреждений и пр.. Я сказал, что надо выбирать: либо то, либо другое. Одну из статей надо убрать. И мне кажется, логичнее убрать ст. 6. Разумеется, я старался ставить вопрос о формальных юридических противоречиях, а не о самой природе легально закрепленной диктатуры КПСС. Но, так или иначе, призыв убрать ст. 6, закрепляющую власть КПСС, гласно прозвучал на официальном собрании трудящихся. Полагаю, впервые при обсуждении новой Конституции. При голосовании по проекту я воздержался. После этого меня ещё долго вызывали и в комитет Комсомола, и к Завлабу, и впартком. Но никаких официальных мер по отношению ко мне тогда не приняли. Зато очень усилилось внимание ко мне со стороны некоторых коллег по работе. На суде в 1983 г. около часа потратили на обсуждение подробностей этого эпизода, хотя он мне официально не инкриминировался. Допросили двоих моих сослуживцев, и я , по их напряжённому тону и серьезным лицам неожиданно понял, какое сильное впечатление произвела на них моя выходка пять лет назад. Сам я отнёсся к случившемуся довольно легко, а после присоединения к «Вариантам» и вовсе забыл, так что на суде не сразу и понял, о чём речь. Мне был важен тогда сиюминутный, прямой эффект моих слов. Убедившись, что он есть, я сразу остыл и начал думать, что же дальше ещё можно придумать эпатажно-провокационного (и нашел!). Так что и это была не серьёзная попытка вступить в диалог, а, скорее, агитационная акция «на публику». Эпистолярный жанр я всегда любил, но писем к вождям куда-то наверх писать не хотелось вовсе. Я написал пару открытых писем (в том числе «О ступенях падения...») к своим друзьям, к той кампании, с которой я постоянно встречался и вечно спорил. Эти письма были, во многом, попыткой как-то закрепить и зафиксировать бесконечное коловращение наших бесед и споров. Когда я писал, я видел лица тех, кому писал. Потому и называл свой текст письмом. А с теми, наверху, я совершенно не представляю, о чём я смог бы говорить, даже если бы мы и впрямь оказались в одном зале. Так что и писать было как-то не о чем.
6. Как повлиял на Вас Сахаров? Несмотря на все сказанное в первой части ответов о моей либерално-демократической ориентации, сама личность А. Д. Сахарова повлияла на меня не сильно. Чтобы быть «западником» и либералом, мне не нужен был ни Сахаров, ни кто-либо другой персонально. К этим выводам я пришел в первые годы института (72-75). Умом я и сам понимал, что только свободное, незакрепощенное научное творчество гарантирует достижение высококачественных научных результатов в исторически длителной перспективе. Мне показалось в первый момент интересным, что один из «небожителей» открыто против Системы выступил. Когда началась открытая травля Сахарова (году в 72-ом), я конечно, был с ним солидарен, но именно как с гонимым, а не потому, что он какие-то идеи мне открыл.
7. Как повлиял Солженицын? Солженицын оказал огромное влияние. Сыграл мой возраст: в 15 лет я уже слышал по радио его первое открытые письма. Помню хорошо, как я с восторгом, как любимое стихотворение, повторял строки из его Письма Секретариату Союза Писателей: «Слепые поводыри слепых» «Сверьте ваши часы», и про полярные льды Антарктиды тоже. Это письмо я весной или летом 70-го записал на свою «Ноту», распечатал на пишущей машинке и отнёс друзьям в школу. Это был мой первый Самиздат. Наверное, поэтому так и прикипел сердцем к Александру Исаевичу. Причем именно как к публицисту, а не как к писателю. Из художественных произведений в те годы прочёл только «Один день...» и «Раковый корпус». Выразить свои тогдашние впечатления мог бы словом «понравилось», но не более. А вот общественная позиция, постоянно появлявшиеся в Самиздате письма и заявления, особенно вся эпопея с Нобелевской премией, всё это производило впечатление чарующее, это была героическая сага, противостояние одного человека монструозной системе, и система эта, перед которой пол мира трепетало, явно была не в выигрыше. Это было как в волшебная сказка с хорошим концом (потому что и высылка в 74-ом мною воспринималась как хороший конец). Идейно-политические приоритеты А.И. Солженицына я не очень хорошо понимал и не очень въедливо анализировал. Какого-то явного славянофильства в его открытых письмах не обнаруживал. Да и не было его тогда! Для меня и в этом случае важнейшим было не «Что» а «Как». А уж на этот вопрос по отношению к А. Солженицыну ответ мог быть только один: смело, открыто, геройски! Только его обращения из Вермонта, более пространные и идейно-насыщенные, возбудили в нашей компании какую-то полемику. Отношение к А. Солженицыну перестало быть однозначным и у меня тоже. Характерный пример: слушали мы с С. Белинковым его обращение (записанное или напрямую по радио, не помню). Дошло до слов: «Для нас Запад всегда был крепостью духа». С. Белинков стал возражать: «Почему он так от имени всех говорит? Для кого - был, а для кого-то - нет. Не все мы перед Западом преклонялись». Я тоже с этой фразой внутренне не мог согласиться, но по причинам прямо противоположным. Меня в ней не устраивало прошедшее время. Для меня Запад, при всех моих оговорках и частного плана инвектив в адрес рыночного капитализма, всегда был в целом, если не идеалом, то положительной, достойной изучения и подражания общественной моделью. Обнаружив, что для А. Солженицына это не так, я осознал, что кроме личного обожания есть у меня и какие-то с ним идейные расхождения. В третьем, кажется, номере «Вариантов» была опубликована статья, сопоставляющая две общественные позиции: обобщенного сторонника идей А. Солженицына («аутсайдера») и сторонника марксистско-ленинских идей. Главная мысль автора была в том, что первый своим нравственным ригоризмом сам изолирует себя от реальной общественной жизни в СССР, а второй всё-таки имеет больше возможностей на что-то повлиять. Насколько я помню, критики собственно славянофильства в этой статье не было. Статья подписана псевдонимом «Ленинец». Я охотно ответил, и мой материал попал в четвёртый номер. Для меня этот сюжет был «родным». Ещё в «Письме о ступенях падения» я доказывал, что никакое тактическое маневрирование, никакая временная маскировка себя не оправдывает, что в конечном счёте, результат всегда контрпродуктивен. Я пытался проводить ту же линию и в статье, т.е. доказывал, что солженицынский «аутсайдер», в конечном счете, добьётся большего, чем «ленинец». Хотя собственно критики марксизма-ленинизма в статье не было, но многократное повторение слов «ленинец», «ленинский» в явно негативном контексте очень не понравилось А. Фадину. У нас был с ним довольно подробный разговор, в том числе и о позиции А. Солженицына, которого он на дух не переносил. В результате, разумеется, каждый остался при своем. 28.06.07 Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



