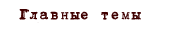
 |
|
Ответы на вопросы П. БутоваВопрос: когда Вы почувствовали интерес к политическим вопросам, имели ли Вы чёткие политические представления и взгляды, или просто искали справедливости Как видно из мемуаров И. Голубовской, с тех пор, как я вынул изо рта соску, я любил поговорить о политике. Атмосфера в школе этому очень способствовала. Учились у нас дети довольно привилегированных родителей. Сергей Беленков был сыном какого-то крупного чина в ГБ. Вторым браком его мать была замужем за представителем ЦК КПСС в редакции журнала «Проблемы Мира и Социализма», Георгием Остроумовым. Позднее он стал одним из помощников Ген. Секретаря ЦК. А. Пушков был сыном профессионального дипломата. М. Блох вырос в семье кинорежиссёра. Мы часто и много говорили о политике. И разговоры эти всегда были саркастическими, ёрническими по отношению к системе. Я не помню, чтобы в нашей троице друзей (С. Беленков, М. Блох и я класса с пятого подружились) кто-то говорил о Советской Власти, о Коммунизме с придыханием. Дальше анекдотов и довольно наивных реплик дело не шло, но общая атмосфера скепсиса всегда была. Но, конечно, главные уроки нонконформизма я получил дома. И дедушка, Григорий Михайлович, и его сестра, Софья Михайловна, и её дочь, Ольга Сергеевна, Советскую Власть на дух не переносили. Года с 66-го в доме слушали Западное радио, года с 68-го появился в доме Самиздат. Критическое отношение к режиму изначально стало для меня нормальной позицией. Скорее требовала в моих глазах объяснения безоговорочная лояльность, с которой я сталкивался иногда среди своих родственников со стороны бабушки или среди других учеников. Но при этом я сразу понял, что мои взрослые родственники будут и дальше работать, жить нормальной жизнью советских интеллигентов, а мои школьные друзья будут активно делать карьеру и стремиться к власти, к успеху, к тому, чтобы, со временем, занять места своих отцов. Меня всегда смущала такая позиция. Сделав вывод, что окружающая действительность дурна, я уже тем самым сделал и вывод о том, что её надо изменить. Одно для меня настолько явно вытекало из другого, что удивлялся я, скорее, тому, как это у других людей может быть по-другому. Любая дата в истории личного духовного роста условна, но всё же 21 августа 68-го года стало для меня заметным переломом. Весной и летом 68-го все мои родные с жадностью следили за событиями в Чехословакии, и связывали с ними большие надежды, не только в отношении самой Чехословакии, но и в отношении будущего СССР. Мы и понимали рассудком, что «империя зла» сложа руки сидеть не будет, и надеялись сердцем, что не рискнут они на прямое вторжение. День оккупации Чехословакии стал для меня потрясением. Я записал тогда в своём дневнике «Сегодня кончилось детство». Я, конечно, не имел понятия, что и как я буду делать дальше, но именно было чувство, что просто сидеть на кухне и причитать по поводу «свинцовых мерзостей» режима для меня уже мало. Когда, вскоре после этого, вернулся из Праги С. Беленков, проживший там два года вместе с отчимом, и рассказал, что он увидел в первые дни оккупации, это чувство ещё усилилось. Так что на этом этапе, можно сказать, оформилось моё кредо «искать справедливости», а точнее – не мириться с несправедливостью. Но при этом я всегда видел мир как некую схему, некую абстрактную модель, перефразируя злополучный 11-ый тезис о Фейрбахе, для меня было очевидно, что изменить Мир можно, только объясняя его. Поскольку никаких других общественных категорий и понятий, кроме марксистских, я, разумеется, не знал, то и самые первые мои общественные схемы тоже были выкроены по этому лекалу. Я считал, что в нашем обществе есть четыре класса: бюрократическая олигархия, «служилая бюрократия», деградировавший и непродуктивный пролетариат, и интеллигенция, в первую очередь, научно-техническая, которая и является единственным прогрессивным классом. Именно она создаёт реальные ценности пост-индустриального общества (научное знание, технологии, информацию), без неё никакой рост общественного богатства невозможен. Она одна страдает от отсутствия свободы. Она одна имеет потенциал нравственной и интеллектуальной культуры, чтобы вести общество к более высокому уровню общественного производства, и другой культуре потребления. Всё это, объективно, делает её революционным классом. Задача пропагандистов только объяснить основной массе интеллигентов, что нет у них иного выхода, кроме борьбы за изменение общества. Наверное, такую модель можно назвать социалистической и марксистской. Но уже курсе на 3-м я понял, насколько всё это наивно, схематично. Нереально. Насколько реальные интересы реальных людей далеки от любой классовой схемы. Помогли мне в этом и Р. Гароди, и статьи из журнала «Нувель Обсерватёр», и просто долгие разговоры с друзьями. В этот период я продолжал общаться и с М. Блохом, и с С. Беленковым, и с его новым другом А. Каплиным (они вместе с С. Беленковым учились в МГИМО). Мир стал для меня более сложным, многоцветным, что ли. Я понял, что идут какие-то очень сложные, недоступные рассудочному постижению процессы, что выбор наш надо делать не рассудком, а сердцем. Был ли я в то время «левым»? Наверное, да. Идея Грядущего, обновлённого, очищенного от скверны мира ассоциировалась у меня не только с пражской, но и парижской весной 68-го. Меня восхищал свободный полёт мысли Р. Гароди, его идея «социализма без берегов». Мне нравилась зубастая риторика «Нувель Обсерватёр». Но при этом театральность, фальшь, эпатаж и самолюбование «новых левых» я тоже как-то чувствовал. Особенно когда сравнивал их поведение и поведение диссидентов в СССР, которые каждую минуту рисковали свободой, а то и жизнью. Конечно, я диссидентов идеализировал, но мне всегда нужен был именно абсолютный, чистый, незамутнённый идеал. Вера моя в диссидентов была вера квазирелигиозная, почти мистическая. Я спорил со своими сокурсниками, и слова плохого не давал никому про диссидентов говорить. Мне казалось, что это какой-то Орден Сынов Света, и присоединиться к нему это высшая честь и счастье. Были ли у меня какие-то ясные политические взгляды? Вряд ли. В Марксизме я уже разочаровался, в классовое объяснение истории не верил. Некоторые книги (М. Джилас, Н. Бердяев) меня покорили умением свести воедино разрозненные факты и дать цельную схему, но при этом я очень ясно чувствовал, что любая схема останется условной, построенной на изначальном доверии к постулатам автора. Я знал, что не идеология имеет в условиях Советского Режима реальную ценность, а наша готовность жертвовать ради этой идеологии жизнью и свободой. Если как-то попытаться меня классифицировать в это время, то точнее всего будет термин «либеральный демократ», т.е. сторонник прав человека, личной свободы, парламентской демократии, свободной прессы, права наций на самоопределение, противник советского империализма. Я с симпатией относился ко всем, кто против Режима боролся, и с антипатией ко всем, кто его оправдывал. Какие-то рецидивы марксизма во всё этом тоже были, но с каждым годом всё слабее. Мне не хватало порою понятий, чтобы выразить свои идеи (я уже начал пописывать) и я обращался к марксистскому лексикону, но тут же сам отказывался. Характерно в этом смысле моё маленькое эссе «Письмо о ступенях падения человеческой личности» (заголовок не мой, он приделан позднее С. Беленковым, к кому это письмо и было обращено). Я писал о противостоянии личности и системы вообще, в любом обществе и на любой стадии исторического развития. Общество отвергает свободную личность, никогда не мириться с автономным бытием, требует конформизма. А личность либо постепенно капитулирует, сдаёт одну позицию за другой, обманывая при этом и себя и близких, либо обречена гибели. Истиной свободы, свободы внутренней, никакое общество никогда терпеть не будет: «мера внутренней свободы обратно пропорциональна свободе внешней», написал я в 74-ом году, и сегодня, буквально в эти дни с ужасом вижу, до какой степени я был прав. Ни слова про СССР там не было. И сегодня, в Израиле, по своему нынешнему опыту, я мог бы написать всё то же самое, до последнего слова. Вопрос: ваша группа была социалистическая. К какому именно направлению социализма Вы себя относите? С учётом сказанного, ответ очевиден: ни к какому. Сложнее с вопросом. Он включает некую посылку, требующую уточнения. Группа позиционировала себя, как социалистическая, именно розовые тона отличали убеждения почти всех участников, и именно с левыми кругами на Западе и в Латинской Америке группа себя идентифицировала. Но всё это вовсе не означает, что группа имела какую-то официальную программу, что существовал какой-то упорядоченный процесс принятия решений по идейно-политическим вопросам, что такие вопросы были предметом упорядоченного обсуждения на собраниях, встречах и т.п. А. Фадин охотно и искренне использовал левую, даже революционную риторику там, где она помогала ему добиться успеха и завоевать очередного сторонника. Но, встретившись со мной, он сразу понял, что эта риторика тут будет только мешать. Во время первой же нашей встречи, в марте 78-го, он обрушил на меня восторженные и искренние дифирамбы кубинской революции, Че Геваре, левым партизанам в Колумбии и в Никарагуа, т.е. всё то, что в его кругу воспринималось, как очевидная истина. Встретившись с не менее энергичным отпором, он попытался меня «уболтать», но я привык к такому стилю полемики, и стал предлагать краткие, но логически строгие опровержения на каждую его блестящую эскападу. И тогда, где-то после третьей встречи, он совершенно изменил тактику. Я хорошо помню наш последний по времени «идейный» спор. Во втором номере «Вариантов», в одной из статей (то ли самого А. Фадина, то ли К. Барановского), мелькнула фраза «НЭП закончислся в 1924 г». Позднее прямой начальник А. Фадина, К. Майданек, указал на эту фразу, как на явную ошибку. Вскоре после этого А. Фадин, на встрече со мной, сказал пристыженным тоном «Но научный уровень номера не высок. Есть много ошибок». В качестве примера привёл неверную дату окончания НЭПА, а «правильным ответом» назвал 1929 г. В ответ я сказал: «Скажи мне, когда закончился НЭП, и я скажу тебе, как далеко ты разошёлся с официальной идеологией». И приготовился к серьёзному разговору о том, как менялась социальная, экономическая, административная и политическая практика режима по годам. Но А. Фадин тут же сменил тему. Серьёзный спор с оппонентом, который совершенно не готов им восхищаться и не желает принимать на веру ни одну из его «домашних заготовок» был ему просто не нужен. Такой спор мог только помешать. Поэтому он сразу прибег к своей «золотой формуле»: «слова разъединяют, дела объединяют». Пока что мы всё равно не имеем официального кредо, сама задача журнала в том и состоит, чтобы серьёзно, с помощью глубокого теоретического анализа проблемы, такое кредо выработать. Это длительный процесс, он займёт годы. А пока что давайте вместе делать общее дело («Варианты») и это сплоит нас сильнее, чем теоретические обсуждения. Сама по себе «вторичность» идеологии в реальной практике диссидентов, особенно к концу 70-ых, была для меня вполне очевидна. Но мне мешало другое. Я видел, что на практике группа имеет достаточно явную идейную ориентацию, и эту ориентацию, помимо моей воли, остальные члены группы так или иначе «проецируют» и на меня. Я всё время чувствовал, что имеет место некая двойственность моего положения: никто никогда моими политическими взглядами не поинтересовался, но почему-то эти взгляды, так или иначе, полагаю достаточно близкими к принятым в кругу «Вариантов». Несколько раз я настаивал на публичной политической дискуссии. Но даже тогда, когда общие встречи происходили (крайне редко), А. Фадин делал всё, чтобы такой дискуссии избегнуть. В это время я опять прочитал, уже с конспектированием, «Истоки и смысл русского коммунизма» Н. Бердяева. Эта книга открыла мне имена В. Соловьёва, А. Хомякова. Нашёл в библиотеке все переизданные в СССР труды этих авторов. Многое показалось созвучно моему тогдашнему душевному опыту. Говорил я об этих авторах не с моими товарищами по «Вариантам», а с А. Каплиным, который был тогда уже убеждённым, последовательным славянофилом. Меня и привлекали его взгляды, привлекали своей цельностью, неким мистическим, «не от мира сего» пафосом, и отталкивали откровенной ксенофобией, стремление видеть в России некую идеальную, богоизбранную страну, которая постоянно становится невинной жертвой каких-то внешних по отношению к ней «тёмных сил». Я очень любил Россию, я мечтал о её славе, о её возрождении. Но при этом я понимал, что это возможно только при условии, что весь кошмар коммунистической диктатуры, гекатомбы невинных жертв, мы осмыслим как некий неизбежный и даже имманентный внутренней логике исторического развития России фазис. Мы с А. Каплиным пользовались одним и тем же понятийным и ценностным языком, и потому мне было интересно с ним говорить, интереснее, чем с моими товарищами по «Вариантам». Но разговоры эти часто кончались яростными спорами. Вообще, А. Каплин тоже читал «Варианты», но в активное ядро нашей группы он не входил. Тогда же попалась мне в руки Программа НТС. И тоже вызвала амбивалентную реакцию. Понравилась идея жертвенного служения Родине. Но при этом было видно, что всё это книжная, достаточно искусственная попытка соединить славянофильскую идеологию и большевистскую революционно-конспиративную практику. Было понятно, что это писали люди в эмиграции, что они сердцем помнили и любили Старую Россию, а умом восприняли, не критично восприняли, успех большевистской революции, и вот теперь пытаются сочетать одно с другим. Со временем у меня сложилось некое общее недоверие к любой книжной, теоретической идеологии, которая сначала принимает некие первичные постулаты без доказательства, а затем, на основе этих постулатов, начинает объяснять общественную реальность. Конечно, при таком подходе реальность, худо-бедно, всегда впишется в заданную схему, иногда с помощью лёгкой, незаметной нетренированному глазу ретуши (фрейдизм), иногда с помощью достаточно явного насилия над фактами (марксизм). И все эти книжные, теоретические схемы стали казаться мне изначально ущербными, непродуктивными в плане индивидуального жизненного выбора. А тут попалась мне книга Лешека Колаковского «Похвала непоследовательности» с коротеньким предисловием Натальи Горбаневской. Там я увидел мою смутную идею, но изложенную изящным, ярким философским языком, убедительно доказанную множеством примеров из истории общественной мысли. Сам принцип «непоследовательности», «нестрогости», «некоггерентности» творящей, живой, созидательной мысли меня просто поразил. Я сразу почувствовал, что это очень глубокая истина, истина не философская, не «умышленная», а живая, экзистенциальная. Её нельзя доказать, как теорему, но её можно увидеть и познать, как прекрасное творение искусства. Я понял, что не от книг и не от теорий надо идти к постижению реальной жизни, а именно жизнь должна вести нас от одного выбора к другому, реальность экзистенциального выбора должна стать критерием правильности или ошибочности любой книги. Беда только в том, что и само это понимание оставалось сугубо «умышленным», теоретическим, что с ним дальше делать, какие идейные ценности с ним гармонируют, а какие – нет, я совершенно не понимал. Очень трудно было оттолкнуть весь тот мир понятий и представлений в котором я жил, и начать некую совершенно новую жизнь, начать писать свою душевную драму с чистой страницы. В эти же годы попался мне «Закат Европы» О. Шпенглера. И тоже произвёл сильное впечатление. Услышать историю народа, точнее, историю культуры, как непрерывное развитие некоей главной музыкальной темы, которая постоянно повторяется в разных тональностях и в разных регистрах, это мне показалось очень заманчивым. Но всё равно, было совершенно не понятно, что же делать со всем этим мне, Михаилу Ривкину. Сам я «культурологическим слухом» не обладал нисколько. Слепо идти за О. Шпенглером, соглашаться со всеми его выводами и обобщениями, иногда весьма произвольными, сначала было очень интересно и давало ощущение какой-то эзотерики, принадлежности к кругу посвящённых. Но потом я почувствовал, что я опять иду от книги к жизни, а не наоборот, и возникло опасение, что художественные достоинства этой книги превосходят её историческую достоверность, и даже искупают этот недостаток. Так что я, в известном смысле, разрывался между «скепсисом без берегов», стремлением беспощадно критиковать любую законченную и последовательную теорию, и тоской по цельной, окончательной и последней Истине Мира и даже Истине Надмирной, которую отвергал мой разум, и которой жаждала моя душа. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



