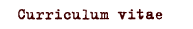
 |
|
Татьяна Рыбникова о середине 70-х в ОдессеБыло ощущение, что ты решаешь судьбу страны и судьбу мираРыбникова: Я училась в 130-й Одесской школе. В этой школе у меня был совершенно замечательный преподаватель русской литературы и русского языка, Анна Викторовна Голумбиевская. Уроки ее были невероятные, и это была не только пища для ума, но и для сердца – это были некие нравственные установки, очень важные в определенном возрасте, и особенно в той ситуации совершенно бездуховной жизни, которая нас окружала. Поначалу она была совсем не диссидентка, а была, наоборот, членом партии. Но она была порядочным и думающим человеком. Вот есть такая миниатюра: «Морщинка пришла к человеку и сказала: «Если ты будешь смеяться, я лягу у твоих губ, если ты будешь плакать, я лягу у твоих глаз». А человек сказал: «Я не буду ни смеяться, ни плакать», и тогда она легла у него на лбу, потому что он не мог не думать. Она легла у глаз и у рта, потому что когда он думал, он и плакал, и смеялся». Человек, который думает… Вот Анна Викторовна была человеком, который думает. И в каком-то смысле, может быть, нам повезло невероятно, потому что она многие вещи про себя открывала и сразу же это доносила до нас. Начинали мы со стихов Евтушенко, каких-то первых вещей оттепели, вроде «Одного дня Ивана Денисовича»… Было это отчасти в русле XX, XXII съездов партии. Таким образом, весь этот процесс происходил у нас на глазах, и получалось, что мы вместе о чем-то думали. А Анна Викторовна была катализатором, во всяком случае для некоторых. Она, конечно, в среде учителей приобрела репутацию свободомыслящего, независимого человека. И однажды кто-то из учителей пришел к ней на урок и услышал какую-то фразу, которая не имела никакого отношения к Солженицыну - она, в общем-то, имела в виду Гоголя. А учительница, которая пришла, ее истолковала, как что-то, сказанное о Солженицыне. Это была эпоха этих всех газетных нападок на Солженицына и на Сахарова. И когда она пришла в учительскую, то эта учительница сказала: «Ты что, с ума сошла, ты такое говорила на уроке! О Солженицыне, об этом бездарном писателе!» На что Анна Викторовна ответила, что Солженицын писатель не бездарный, он писатель талантливый. «Архипелаг Гулаг», - сказала она, - я не читала, но все остальные вещи, все, что было опубликовано в советской прессе, я читала. И я утверждаю, что он талантливый писатель». И этого, в общем-то, было достаточно. Буквально через несколько дней ее вызвали на беседу в Комитет Госбезопасности, и с этого дня, как я думаю, начинается ее путь в правозащитное движение. Ее приглашают на беседу, у нее начинаются неприятности в школе, с ней разговаривают, проводятся партийные собрания, потом профсоюзные собрания, через некоторое время ее исключают из партии. И после этого она начинает правозащитную, пока что для себя, деятельность. И она пишет, излагает свое дело, пишет по инстанциям: сначала в районную партийную организацию, потом выше, выше, выше… И когда она уже написала в ЦК Компартии Украины, ее пригласили на беседу. Кто-то из представителей ЦК пригласил. Там ей сказали, что дело это выеденного яйца не стоит, ее не имели право исключать из партии. Ей предложили написать заявление, чтобы восстановиться в партии. Но к тому моменту она уже не хотела быть в партии. Она к тому моменту уже слишком много прочла, и прочувствовала, и поняла, и для нее это уже было неактуально. Но каково ей было пройти все эти этапы, и столкнуться с теми люди, с которыми она проработала не один год – и в общем-то, с нормальными людьми, которые и помогали, может быть, когда-нибудь до зарплаты десятку перехватить, и в каких-то бытовых вещах… И вдруг ты оказываешься в стане чужаков! Вообще это было жутко страшно. И я помню, что многих людей больше всего восхищало даже не то, что она не боится, даже не то, что она не кается, не просит прощения, а продолжает думать, читать. Восхищала ее нравственная позиция и ее интеллектуальная смелость. Да и не это даже. Я знаю, что многих людей больше всего поражало, что она при этом себя не ощущала человеком трагедии, абсолютно! Она была совершенно жизнерадостным человеком, оптимистичным невероятно, который с улыбкой иногда рассказывал о каких-то вещах… Хотя я помню ее самочувствие перед этими профсоюзными собраниями, и после этих собраний. Там говорились ужасные вещи, и весь ужас их был в том, что их говорили хорошие знакомые, люди, с которыми ты не один год проработал. От этого они казались еще более лицемерными и жестокими… Шварц: Какие это годы? Рыбникова: 73 – 74-й… Начало 70-х… Шварц: Какие люди были в ее окружении? На кого из тех, кого Вы знаете, ее занятия оказали влияние? Рыбникова: Когда начинается вся эта ее ситуация, она, спустя короткое время, знакомится с Анной Васильевной Михайленко, потом, насколько я знаю, Анна Васильевна ее познакомила с Вячеславом Игруновым. Примерно в это же время она знакомится с Леонидом Тымчуком. Конечно, Игрунов и тот литературный круг, который тогда был, – это, конечно, был совершенно новый этап в жизни Анны Викторовны и для людей, которые общались с ней… Я особенно близко с ней стала общаться только после окончания школы. Я стала студенткой Одесского государственного университета, филологического факультета, и для меня началась какая-то совершенно другая жизнь. И ее дом, ее квартира, по сути дела, становится очень мощным клубом. Это был открытый дом, дом на улице Моисеенко, номер восемь. В нем бывало очень много людей, причем необязательно там были правозащитники и диссиденты… Туда очень тянуло интеллигенцию, молодежь особенно. Это было место, где можно было спокойно, ничего не боясь, говорить на самые разные темы. …Люди всегда говорят об одном и том же. Я думаю, и сейчас, наверное, говорят приблизительно о том же. Мы говорили и о политической ситуации, и, конечно, о книгах, о литературе - и подцензурной и, конечно, неподцензурной. Обсуждали все новое, что выходило тогда в советской печати, в толстых журналах, «Новом мире», «Иностранной литературе»... Это была часть жизни, невозможно было представить, что люди не будут это читать, не будут этого знать. И, конечно, интеллектуальная элита все это знала. И плюс к этому уже тогда существовала подпольная библиотека, та, которую сделал Игрунов. И приблизительно в это время Анна Викторовна начинала читать книжки из этой библиотеки… Шварц: Кроме Игрунова и Тымчука, кто еще входил в этот кружок, который собирался на Моисеенко? Рыбникова: Там много было людей, не только диссидентов. Люди приходили, общались. При этом там очень часто были люди, которые не разделяли взглядов Голумбиевской – такие тоже были и, кстати, там очень терпимо относились к ним – в ее доме такого разделения на «наших» и «ненаших» не было. И, кстати говоря, ее совершенно удивительный характер очень тому способствовал: люди, которые могли придерживаться абсолютно разных взглядов, тем не менее, в этом доме находили то, что им было интересно, близко и очень важно… Людей, которые ходили к Анне Викторовне, рано или поздно вызывали на беседу в КГБ. И многие стояли перед выбором для себя: читать Солженицына или другую неподцензурную литературу - или учиться в университете… В другие времена выбор бывал более жесткий – человек выбирал, сидеть в тюрьме или оставаться на свободе, или еще более жестокий выбор – был убитым или быть убийцей, а нам повезло: у нас гораздо более мягкий был выбор… Шварц: А были такие, которых исключали за посещение этого кружка?
Рыбникова: Были такие люди. Скажем, Леня Тымчук. Он и судим был, причем по такому делу – его обвинили, очень корректного, очень мягкого человека, в уголовном преступлении… Очень многие люди, кстати, из окружения Анны Викторовны помогали Тымчуку. Он не должен был ходить просто по улицам, потому что опять могла быть судимость - а что дальше будет, неизвестно. Причем и посадили-то его не за чтение литературы – его посадили за хулиганство, которого не было. Шварц: Насколько сильно было влияние той подпольной библиотеки, которую Игрунов создавал? Насколько она была интересна? Рыбникова: Это просто трудно переоценить - настолько громадное влияние! Я об этом очень много лет думаю, и мне кажется, что это еще ждет своей оценки, потому что переоценить эту вещь просто невозможно. Шварц: И большая она была? Рыбникова: Ну, мне трудно сказать… Я думаю, что она была большая, и я могу себе представить, какой колоссальный совершенно труд, по нынешним временам просто непредставимый, – был вложен в ее создание. Я думаю, что поколение, для которого доступен ксерокс, никогда уже этого не поймет. Они просто никогда не поймут, что значит фотографировать книгу, а потом печатать. Или, предположим, перепечатывать на машинке «Эрика», которая берет четыре копии, а четвертая, кстати, почти нечитаема. И вот то, что находились люди, которые не только сидели за машинкой и печатали эти четыре копии, но и достаточно много таких, которые читали четвертую копию – вот это было не меньшим показателем времени. И сейчас, когда приходит молодежь, которая не читала Солженицына, который выходит тиражами, который есть в библиотеках, есть в книжных магазинах – а они не читают, нам это совершенно не понять. Можно, конечно, рассуждать на эту тему, о причинах, но в глубине души все равно это для меня всегда останется непонятным. Оказывается, что тогда, когда за это могли поплатиться, читали ночью четвертую копию, чтобы наутро отдать другому, а вот сейчас прекрасный экземпляр, на хорошей белой бумаге – а у тебя нет времени. Так что не все в том времени было так плохо. Может быть, хорошо в том времени было ощущение перемен… Вот оно было, ощущение, что что-то происходит… Хотя если говорить обо мне лично, никогда в жизни я не думала, что я доживу до того времени, когда не будет Советского Союза, что при моей жизни будет официально напечатан «Архипелаг Гулаг» Солженицына. Я на это никогда не надеялась. Мне это даже во сне не могло присниться. Шварц: А Вы сами какое участие в этой деятельности принимали? Рыбникова: Ну как Вам сказать? Не очень большое, то есть даже невозможно сравнить с тем, что делали Игрунов и его друзья, те, которые создавали эту библиотеку… Ведь помимо того, что надо было напечатать книги, надо было еще сделать так, чтобы библиотека функционировала. Книги надо было где-то хранить. И опять-таки надо было иметь мужество дать человеку прочесть это. Не у всех хватало мужества не то что дать прочесть, но и самому прочитать. Это нужна была интеллектуальная смелость. У Стругацких есть замечательный совершенно эпизод, где герой думает: «Когда человек говорит: «Хочу есть» - это еще не человек. Когда он говорит: «Хочу знать» - тогда он уже человек». Вот это вот ощущение «Хочу знать», без которого невозможно жить, оно было основным, наверное, для этого времени – для миропонимания и мироощущения. …Это была целая жизнь. Как в том фильме, «Место встречи изменить нельзя»: «Было огромное счастье, огромное…» И тогда оно было, рядом были друзья, рядом были люди, которых ты уважал, рядом была Анна Викторовна, которая попала в эту жуткую историю… Мы прекрасно понимали этот двойной стандарт, эту безнравственную ситуацию, когда тебе говорят одно, а ты видишь, что на самом деле все совершенно иначе. Мы это все понимали, но вместе с тем рядом были люди, для которых нравственная планка никогда не понижалась. И любое свое решение, любой свой поступок тебе было с чем сверить, был эталон. Вот у меня была Анна Викторовна, у меня был Вячек, с которым я могла посоветоваться, к которому я могла придти с любыми какими-то своими страхами, со своими вопросами, со своими сомнениями. И было ощущение, может быть, что ты решаешь судьбу страны и судьбу мира. Кто-то скажет, что этим просто сумасшедшие занимаются – ведь все равно от них ничего не зависит. Кто мы были – сумасшедшие, ненормальные, люди, которые, в конечном итоге, что-то изменили. А ведь есть масса людей, которые скажут, что от этого никто не выиграл. И укажет на те миллионы беспризорных людей, миллионы голодных стариков, на которых нет лекарств. Это все очень серьезно… Шварц: Еще другое измерение есть. Это движение, правозащитное, диссидентское - абсолютная ценность, как мне кажется. Его влияние на интеллектуальную и духовную жизнь страны огромно. Оно в значительной степени изменило облик русской интеллигенции. Я думаю, что это новая веха в каком-то смысле, потому что русская интеллигенция в лице диссидентов полностью отказалась от насилия как метода достижения своих целей. Важен был и отказ от подпольщины, стремление к открытости… Рыбникова: Кстати говоря, Вячеку это было очень свойственно. Он вообще проповедовал принцип просветительства. Даже когда он был в Комитете Госбезопасности, он там излагал открыто свои взгляды. По этому поводу очень сильно дискутировали – правильно это, неправильно… Шварц: Он изменился сейчас? Рыбникова: Знаете, честно говоря, я думала, он изменился больше. У меня ощущение, что внутреннего изменения не произошло. Вот у меня ощущение, что это тот Вячек, которого я знала здесь в Одессе. Хотя, конечно, я понимаю, что это не тот Вячек, что у него другая жизнь, что она не стоит на месте, и масштаб у него другой, и те задачи, которые он решает, совершенно иные, и возможности решения этих задач – все другое. Но, тем не менее, по большому счету, я думаю, человек никогда не меняется… Когда все живут под одним прессом, то этот пресс не только давит, а он еще и объединяет. И, в общем-то, когда этот пресс снимается, то оказывается, что разного между людьми гораздо больше, чем можно было себе представить. Вот, например, отказ от насилия – это не у всех совершенно было, и сейчас это совершенно очевидно. Шварц: А лично Вы какие-то идеи, которые оказались внутренне для Вас важны, вынесли из этого общения: в кружке Голумбиевской, с Игруновым и так далее? Что для Вас лично оказалось важным? Рыбникова: Самым важным был вывод: надо жить так, чтобы не стыдно было. Нельзя сделать что-то такое, в результате чего человек пострадает. Понимаете, чем крупнее ставка, тем, я думаю, легче выбирать. Если тебе приходится выбирать, пойдет человек в лагерь или не пойдет – это один вариант. А если тебе приходится выбирать в ситуации, когда у него могут быть неприятности, а могут и не быть - а у тебя они точно будут - это другой вариант. И вот этот вот страх, что ты в какой-то ситуации цейтнота поступишь неправильно, вот это, я думаю, самое сложное… Понимаете, я уже вышла замуж, я уже ждала ребенка, когда меня уволили с работы. И когда оказывается, что тебе некуда пойти, то это ощущение, что куда бы ты не пришел, все двери перед тобой закрыты, и возможностей никаких нет – это ужасно, но это трудно понять нынешнему человеку. С одной стороны, ему знакомо ощущение безработицы, чего для подавляющего большинства населения Советского Союза было совершенно неизвестно. А с другой стороны, если в тебе есть хоть сколько-то внутренней энергии, ты понимаешь, что если ты не устроишься сразу, ну так ты пойдешь в другое место, в коммерческое предприятие, ты не умрешь от голода… А тогда такой возможности не было, можно было пойти только на государственную работу, а любая государственная служба тебя не возьмет, если ты засветился в КГБ. И вот этот вот выбор, когда тебя вызывают и говорят, что мы знаем - понимаете – они знают! - что Вы читали эту книгу, мы знаем, кто вам дал читать, что вам давала Анна Викторовна Голумбиевская, и нужно только сказать «да». Они говорят: «Да Вы не бойтесь, мы ее не посадим и ничего ей не будет, а вот только скажите «да»». И если ты говоришь «Да, она давала», ты продолжаешь работать над своей работой. У меня муж судоводитель. Судоводитель – понятно, в море все, а на берегу - дворник, на берегу судоводителю абсолютно нечего делать… Вот только что он блистательно сдал все экзамены, и капитан, который принимал у него эти экзамены, говорил: «Парень, ты мне подходишь, приходи, я беру тебя в свой экипаж». И когда он приходит через две недели, он ему говорит: «Я не знаю, что ты там натворил, но я не могу тебя взять». И запрет на профессию. И это не на день, не на два, а просто переломанная жизнь. Шварц: А судьба Голумбиевской как потом сложилась? Рыбникова: У нее тоже запрет не профессию. Хотя ее не уволили с работы. Эта ее титаническая борьба все-таки закончилась тем, что ее не уволили с работы. И она осталась работать в школе, но не литературу преподавать, а домоводство. И она стала учить шить, или гладить, или салаты готовить. У нее потом была попытка вести литературный кружок, но очень быстро эту попытку пресекли. Там были совершенно потрясающие, очень интересные занятия. Я уже этого не слышала, это класс, который после нас был. Они приходили к ней, в эти мастерские, и слушали там занятия по «Мастеру и Маргарите» Булгакова. Кстати, она написала очень интересный текст, посвященный ученикам. Он сохранился в рукописи, потом, насколько я знаю, она его отдавала в журнал Вячеслава Черновола. И она у меня спросила разрешения, она хотела в посвящении поставить мое имя. Мне очень стыдно, но у меня не хватило мужества на это согласиться. Я тогда работала в Литературном музее, и я слишком любила эту работу… Тут я струсила. Тогда она написала посвящение «Моим ученикам». Эта статья опубликована в детском журнале. История, связанная с этим, очень интересна. Дело в том, что этот журнал издавала детская редакция, они сами это все набирали, верстали, печатали… И вот они захотели этот текст поместить в этом журнале. И мне даже трудно объяснить, насколько это важно для меня. И может быть, это даже более важно, чем если бы это напечатал какой-то солидный журнал в приличном издательстве. А вот то, что нашлись дети, для которых это оказалось важным… Теперь Анны Викторовны уже нет в живых… Она тяжело болела, она ушла на пенсию раньше времени и после тяжелой болезни, тяжелой операции, умерла. Умерла в бедности, очень тяжело ей жилось. Это уже была Перестройка, отсутствие лекарств, отсутствие материальных каких-то возможностей. Ей помогали ее ученики, помогали друзья… Естественно, по возможности – кто сколько мог. Знаете, такая есть пословица: «У Бога все готово». Когда она умерла, выяснилось, что надо заплатить довольно большую сумму за место на кладбище, и так случилось, что у нас нашлись деньги. И оказалось, что нашлось очень много, кто дал. Она была человек легкий, в ее присутствии всегда было легко, всегда хорошо. Это был очень радостный человек. Мы всегда пили чай, никогда не пили водку или очень редко вино, а только чай… Знаменитые чаепития… См. рассказ Вячеслава Игрунова о Татьяне Рыбниковой и Анне Голумбиевской
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
||||