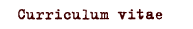
 |
|
Одесские разговоры[1]Участники:
Поэт, по профессии инженер. Работал на газопроводах, по защите от утечек, коррозии, предотвращению аварий, в постсоветское время - на случайных работах, в том числе журналистской. В настоящее время живет в Одессе, зам директора Дома культуры им. Леси Украинки, продолжает публиковаться, издает свои книги.
Поэт, закончил гидрометеорологический ин-т. В настоящее время работает в Доме творчества школьников, живет в Одессе, автор 2-х книг стихов.
В 60—70 гг. поэт, закончил ЛГИТМИК, потом кандидат искусствоведения, театральный и кинокритик, с Южным, Зеликовским, Вайном познакомился в литературной студии Дворца студентов в 1965 г. В настоящее время живет в США, издает журнал.
Поэт, закончил ЛГИТМИК, режиссер, живет в Баден-Бадене, Германия.
В 70—е – друг Вайна, Южного, Зеликовского, Хащеватского, Сташкевича, тогда же - ближайший друг Шурика Чернова, жил периодами в Одессе и Магадане, организовал во дворце студентов "Клуб любителей музыки" (подробнее в статье А. Бирштейна и М. Кордонского "Поклубимся", "Киевский телеграфъ", 2004 г.), в его квартире на Маразлиевской печатались самиздатские книги. В настоящее время живет в Тель-Авиве.
Друг Александра Южного (Бирштейна) и Зеликовского, а также Вайна. В настоящее время работает в управлении Одесской железной дороги.
Поэт, руководитель одесской студии поэтов «Круг». Под его редакцией вышла книга молодых одесских поэтов «Вольный город». В настоящее время живет в Австралии (Сидней).
Дружил со всеми, кроме Лынюка, окончил Одесский технологический ин-т, потом ГИТИС, работал режиссером в Одессе. Сейчас режиссер и ближайший друг Михаила Жванецкого. Живет в Москве.
Режиссер. В 60—70-е ставил студенческие спектакли, автор-исполнитель песен своих и других упоминаемых здесь одесских поэтов. Закончил Одесский технологический институт и ЛГИТМИК. Во время учебы в ОдТИ был исключен за критику событий в Чехословакии в 1968 г. Он поставил спектакль по книге Людвика Ашкенази "Черная Шкатулка" (при участии Сташкевича, Южного, но незначительном), работал грузчиком, потом был восстановлен, завершил учебу. После переезда в Минск поступил заочно в ЛГИТМИК. В настоящее время один из самых известных кинодокументалистов мира, лауреат практически всех премий в области кинодокументалистики.("Обыкновенный президент" "Кавказские пленники" "Все хорошо" и т.д.). В настоящее время живет в Минске. Находится в оппозиции к Лукашенко, подвергается преследованиям. Врач-психиатр, поэт, писатель. В 70-е – один из активных распространителей самиздата. В настоящее время живет в Одессе, заведует кафедрой клинической психологии ИПО Одесского Национального университета.
Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 7 | Часть 8
Часть 1.Ю.ЛЫНЮК: Вы знаете, у меня воспоминания одесские, они несколько смешные. Вот, допустим, в наш двор приходили стекольщики, старьевщики, а одна старая еврейская пара (муж-жена, брат-сестра не могу сказать) меня просто поражала. Они с какой-то периодичностью посещали наш двор, он играл на банджо, они пели. Пели обычно еврейские песни, но вдруг в один прекрасный день запели "Смело товарищи в ногу..». Поверьте, это было очень смешно. Потом мне рассказали историю этих людей. Оказывается, их поймал какой-то деятель культуры и сказал: "Ребята, ну, ходите, ну, понятно, как-то жить надо, мы все понимаем... Но вы смените репертуар». И люди сменили репертуар. Двор была единица, конечно, суровая, очень многое происходило в жизни человека в дворовом окружении. Но существовало еще одно понятие квартала. Для нас, мальчишек, оно было очень серьезным, хотя бы по той причине, что дворы были небольшие, и во дворах сверстников было не очень много. Собственно, у меня было два человека, которые были близки мне по возрасту, но на двоих игры не сообразишь. Я жил в 7 номере и общался с людьми из 2,3,5... Так что квартал, он для мальчишек имел огромное значение. И потом у нас же была шикарная развалка напротив. Роскошная развалка! Это было место жизни. Она просуществовала года до 53-го. Баловались, играли, чего там только не было... Внутри этой развалки остались жилые дома, мы там лазили по крышам, из-за чего, конечно, было много конфликтов. А задняя стенка двора выходила в сад, где когда-то был особняк баронессы. Мы лазили туда за абрикосами и, естественно, получали по голове... Так что много было всякого интересного. Б.ВЛАДИМИРСКИЙ: Я учился в 121-й английской школе до восьмого класса. Там было как бы культурное гнездо, культурная ниша. Это была не очень, вообще говоря поощряемая украинская школа. Там было украинизированное начальство, там был Петро Лукич, наш директор, который про меня, Женю Ицковича и Алика Бейдермана говорил "моя еврейська самодiяльнiсть". Мы действительно самодеятельность этой школы на себе потащили. Между прочим, в этой самой 121-й чисто украинской школе нам повезло. К нам пришел в качестве учителя украинской литературы Евгений Михайлович Присовский. Сейчас о нем всякое говорят, и я должен сказать. что с унынием читаю его статьи, но в начале 60-х годов, когда он у нас читал в 6,7,8-м классе, это было счастье. Он был абсолютно живой человек, полный энтузиазма и национальной идеи. Он буквально топил нас в стихах Василя Симоненко, Лины Костенко, молодого, тогда еще одаренного Бориса Олейника, Драча... Он влюбил меня в украинскую литературу. Я должен сознаться в грехе в 8 классе я написал два стихотворения на украинском языке, со мной такое бывало. Но, в принципе, 121-я школа ничем особенным не отличалась. А вот в театральной студии Фуксиной при Дворце Леси Украинки мы ставили даже куски из "Маскарада", Арбенина я там играл... Мы ездили очень много, и это вырабатывало какую-то самостоятельность. Мы практически все лето мотались сами по лагерям, по детским домам, где давали спектакли. Мы рано взрослели в связи с этим, рано влюблялись. Главный роман в моей жизни начался в 12-13 лет и продолжался лет 5-6. Для меня вход в литературную жизнь был отчасти оттуда, а отчасти, конечно, через отца, который был очень хороший литературовед, филолог и старый одессит. А.БЕЙДЕРМАН: Я окончил 121-ю школу. Хорошая школа, английская. У меня, как и во всей еврейских семьях, родители прекрасно понимали, для них это было совершенной аксиомой, что я не должен быть портным. И поэтому как только в Одессе открылась первая английская школа (это было в 1957 году), меня туда устроили. Это было не так просто. Ю.ЛЫНЮК: Тут есть еще одна вещь, которая сильно на меня подействовала. Дело в том, что мой брат дружил с Дюльфаном. Дюльфан личность всегда была неординарная. Я тогда впервые столкнулся с чем-то подобным. Дюльфан сделал икону. Икона, конечно, была великолепная: Фидель Кастро, на руках у Фиделя Кастро Дюльфан, в руках у Дюльфана красная звезда, а на окладе написано: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем". И вообще общение с Дюльфаном имело большое значение. И потом была еще группа людей: у моего старшего брата собиралась очень интересная компания. Тогда Никита Сергеевич Хрущев провел очередной эксперимент над студентами, и они, бедняги, должны были работать и учиться. Работал он на Полиграфмаше на Молдаванке. И была у него там компания очень интересных людей. Часть из них уехала потом, часть потерялась, они были старше, они много знали, они были коренными жителями Молдаванки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Были у них знаменитые куплеты... Я, конечно, их все не помню, это одна из интерпретаций "Кирпичиков", которая звучала приблизительно так: Тут пришла война буржуазная Все это воздействовало... Атмосфера. - А "юркина печка" когда появилась? А, вас печка интересует... А печка появилась в 1962 году, и появилась вот каким образом: ремонт сделали и мать одну комнату отдала нам с братом на откуп что хотите, то и делайте. Мы поклеили четыре цвета обоев, красной и зеленой криской выкрасили по диагонали пол, а печку разрисовал Дюльфан: квадратами, ромбиками и треугольничками. А потом появились автографы на ней. Рисовали все, что угодно, писали ерунду, все, что приходило в голову. До матерных стихов. А.БИРШТЕЙН: Я родился в 46-м году в этом городе, жил на Жуковского, учился в 39-й школе. На класс старше меня учился Юра Лынюк, мой добрый друг, с которым мы очень подружились буквально с первого класса. И где-то классе в 9-м он меня познакомил с Димой Зеликовским, который тоже писал стихи. Недели через 2-3 Дима меня на улице перед школой познакомил с Борей Вайном. Нас стало уже трое. Б.ВАЙН: Ну, ходил я на школьные вечера. И вот на одном вечере объявляют: "Выступает поэт Вадим Вайнштейн!" (Тогда Зеликовский был Вайнштейном.) Вышел Дима и стал что-то яростно читать, про каких-то девочек в Аркадии, которые как солнечный удар... Меня это несколько возмутило. Думаю что такое? Я же тоже могу. И на следующем вечере я оказался рядом с ним и сказал ему: "Ты поэт я тебе 100 очков форы дам, я пишу лучше тебя». Его это резко возмутило, он стал задираться, стал мне что-то читать... Надо сказать, что у меня за душой ничего не было. Я знал, что могу, но не писал. И я принялся срочно писать, чтобы не ударить в грязь лицом. Еще мы подобрали Шуру Южного (Бирштейна), о котором знали, что он тоже пишет. И вот оказалось три поэта в 39-й школе. Мы очень понравились друг другу, Зеликовский срочно затеял писать какую-то пьесу, комедию "Восхождение на Парнас". Это был полный бред, в который включались в основном стихи Зеликовского. Не дописав эту пьесу, мы кинулись к нашему директору, чтобы уже ставить. Директором у нас была замечательная женщина Полина Васильевна, которая, кстати, фигурирует в книге Львова "Большое солнце Одессы". Она слушала нас, улыбалась, улыбалась, а потом говорит: "Ребята, что ж это вы пишете, вы бы нам лучше про химизацию написали". В конце 63-го года я, Зеликовский, Южный и еще один мальчик, который тоже в этой школе учился и писал стихи пришли во Дворец Студентов, где с нами встретился Сережа Александров. Он пришел с товарищем, мы сели в отдельной комнате и Александров начал говорить... То есть он перед нами так блистал! Мы развесили уши, он нам столько лапши на уши навесил! Неописуемо много. Его товарищ сидел, уткнувшись головой в стол, рисовал и постоянно вздрагивал от смеха. Он говорил нам обо всем, он говорил про какое-то правое, левое исчисление... я не помню. По сравнению с нами он знал все. Я был потрясен, я считал, что более умного человека в жизни не встречал. Я его, кстати, искренне и долго любил. А.ЮЖНЫЙ (БИРШТЕЙН): Александров был тогда директором Дома медработников. После этой встречи он пригласил нас и начал с нами заниматься. Мы читали стихи друг другу, он жестко критиковал. В общем, что-то у нас начало получаться, мы начали лучше писать стихи, и Александров стал выводить нас "в люди". Мы выступали, читали стихи в библиотеках, школах... В.ЗЕЛИКОВСКИЙ: Я родился в городе Одессе в 1948 году на улице Маразлиевской (потом Энгельса), в доме, который описывал Катаев, там, по его описанию, лежал в госпитале Петя Бачей. Лежал он как раз в спальне хозяйки, где я, в общем-то, появился на свет; потому что это была наша комната в коммунальной квартире. Мы жили в одном дворе с Борей Земельманом. Мы выросли вместе, он был, правда, старше, нахальнее, и, на нас, мелюзгу, смотрел сквозь губу, с прищуром. Пожалуй, это был первый человек, от которого я услышал анекдот. Он нас просвещал всяческим образом, как в сексуальном, так и в прочих планах. Это был человек первый на моих глазах, которому пошили костюм. Он тогда стоил бешеные деньги 1100 рублей. Кусок с кусочком это называлось. - А какую вы школу заканчивали? Ой... По-моему, нет в этом городе школы, где я бы не учился. Мою маму таскали по учителям с утра до вечера, и она всегда спрашивала: "Что же он делает? Он что, дерется?" "Нет, говорят, что вы. Он никогда не дерется». "Ну что же, хамит?" "Нет, говорят, он же очень интеллигентный мальчик!" "А что же такое, в чем же дело?" "Просто когда он в школе, уроки вести совершенно невозможно». Вся беда была в том, что я задавал вопросы, на которые учителя просто ответить не могли. Это было за гранью их понимания. По их понятиям, подобные вопросы должны лежать вне сферы внимания советского ученика. - Но школу вы закончили? Ой... Я закончил 25-ю сменную. И то в силу того, что там завучем была моя родная тетя. Лет в 13, наверное, я начал писать. Стихи. Потом это все сбилось в такую плотную группу... Если не считать графоманов, в нее входили Боря Вайн, Боря Херсонский, Леня Заславский, Леша Цветков и Ким Каневский. Ю.ЛЫНЮК: Я никогда не анализировал, как получилась "компания, приятная во всех отношениях". Ну хорошо, с Шуриком Бирштейном я был хорошо знаком с детства, мы вместе играли в футбол, и, в общем-то, мы и на сегодняшний день достаточно близки. Боря Вайн был младше меня на два класса. Я ведь был в первое время самый старший в этой компании. (Потом появились другие люди, но это уже другая история). Дедушка и бабушка Димки Зеликовского жили в нашем дворе. Потом они построили дом, уехали на Чубаевку жить и оставили квартиру своему сыну старшему. А мать Димки была младшей сестрой и жили они на Энгельса, рядышком. И там же жил Борька Земельман, Зямка. Боря был со скрипочкой. - Как? Ну, учился. Я не знаю, какая там осьмушка, четвертинка была, я не помню. Но со скрипочкой. А Димка Зеликовский был всегда подстриженный, с чубчиком, с вьющимися волосами, это было всегда очень смешно. То есть мы знали друг друга с детства просто. В какой-то момент мы были ближе, в какой-то момент дальше. Ведь детская привязанность подвижна, она определяется очень многими представлениями, связями... Скажем, спорт, футбол это одна группа людей, с которыми ты общаешься, дальше какие-то другие интересы, другие люди. Миша Мельник появился чуть позже, мы с ним познакомились через Наташу Хомченко. Она была девушка симпатичная, и до некоторой степени в нее влюблялись. Ну, сильнее всех я, конечно. Там многое было связано с Наташкой, с влюбленностями этими, со всеми этими делами... Мы ведь тогда вышли на очень-очень хороших людей, которые потом принимали активное участие во всех наших делах. Вот это ядро первоначальное, с которого начиналась эта компания. - Когда это было? Это был год, наверное, 63-й. Где-то так. Б.ВАЙН: Время от времени мы выступали на вечерах с нашими творениями. Выступали, я помню, в школе милиции. Там был еще один одесский поэт Миша Симоконь. Этот Миша Симоконь, послушав то, что я прочитал, сказал: "Ну, старик, ты уже так пишешь, что тебя можно во взрослую студию приглашать". Я знал, что такая взрослая студия есть, она собирается во Дворце студентов, но почему-то мы туда не ходили. Потом я перешел в 11-й класс, Зеликовский соответственно в 10-й, Шурик Южный поступил в институт на первый курс. Занятия с Александровым несколько скисли. Как-то в сентябре 64-го года мы пришли в литературный кружок в библиотеке Маяковского (она была здесь на Греческой рядом с "Белой акацией"). Там было несколько человек, незнакомых нам, и был один графоман, которого мы знали. (Он писал невероятно длинные стихи, невероятно глупые и заставлял всех слушать). Мы читали друг другу свои стихи, несколько ребят там нам понравились, мы, соответственно, им. И тут этот графоман все-таки вырвался и начал читать. Это было нечто. Мы просто умирали: этого слушать невозможно было спокойно. Наконец кто-то, покатываясь от смеха, вышел из помешения, вслед за ним я, потом еще... В общем, шесть человек оказались стоящими на улице. Мы вдоволь насмеялись и стали знакомиться. Нас было трое: Южный, Зеликовский и я. И трое других. Это были Заславский, Гальперин и Марик Боймцагер. и вшестером мы отправились гулять по городу. Погода была замечательная, вино очень дешевое, мы накупили вина и пошли к Заславскому домой. Разошлись, наверное, в двенадцатом часу ночи. Встретились на следующий день, и на следующий день. Короче говоря, мы почти все время стали проводить вместе. Я не знаю, как другие, а я забросил учебу почти полностью, учился на одни двойки. Мы были влюблены друг в друга страшно. В той же библиотеке Маяковского мы познакомились с Владимирским и Бейдерманом. Но они с нами гуляли нерегулярно, а вот эти шесть человек была почти постоянная компания. А.ЮЖНЫЙ: После одного из таких чтений к нам добавились Леня Заславский и Алик Бейдерман. Бейдерман тогда стихи, по-моему, писал, но никому не читал, он просто сидел у нас в литстудии, умно молчал и очень интересно критиковал то, что мы писали. А я, честно говоря, не помню его стихов того времени совершенно. Потом пришел Витя Гальиерин. Его судьба мне сейчас неизвестна. Он интересные какие-то вычурные стихи писал, слегка картавил. Очень смешной был парень: симпатичный, длинный... Мы с Александровым общались, он меня познакомил с Соколовым Олегом, мы там часто бывали... Б.ВАЙН: Прошло несколько дней после нашего знакомства, и мы вдруг ни с того ни с сего пошли в редакцию "Комсомольской искры". Мы пришли поздно, никого там не застали, но встретили одного мальчика, очень симпатичного, хроменького (он носил ортопедический ботинок, одна нога у него была значительно короче другой). Мы познакомились, спустились вниз, пошли по площади. Он прочел нам одно стихотворение, потом второе, которое нас абсолютно потрясло. То есть он заткнул за пояс нас всех. Так наша компания приняла в себя еще одного товарища Алешу Цветкова. Особенно сильно сдружился Цветков с Заславским. Настолько, что Цветков перешел тогда к Заславскому жить. (У Лени тогда мама и папа были в Кишиневе.) Ну, как они жили с Цветковым это можно себе только представить! В.ЗЕЛИКОВСКИЙ: Леша Цветков... Как сейчас помню: человек со светлыми глазами, с длинными белыми волосами, как крылья у него за плечами были. Он сразу прочел стихи, которые стали олицетворением его. Они написаны в 15 лет. Я считаю, это великие стихи: Я знаю, кем я был, когда я не был, - Вот этот колокол с трещиной в боку это было олицетворением... Он и ходил, раскачиваясь, как колокол. Вот эта трещина вела его, вела и довела... в Америку. Ю.ЛЫНЮК: Нам в принципе было довольно легко жить... Нам еще 15 не было, для нас уже существовали Аксенов, Евтушенко, Кузнецов, конечно... Наверное, прежде всего Кузнецов, а потом уже Аксенов для меня во всяком случае. Подобный путь прошли почти все. Кого-то кто-то заменил вот из этих людей. Кого-то Гладилин, кого-то Рождественский, кого-то Евтушенко... Кто-то жил в мире старой русской поэзии, допустим, тот же самый Шурик... Потом, наверное, отличительной особенностью у всех нас было то, что мы были все старая одесская закваска. Семьи-то были одесские. Старые. Жили мы в старом городе. Наверное, сама атмосфера, аура сработала. Сработало то, что родители видели в нас продолжение интеллигенции, может быть, советской формации. То есть старая одесская закваска плюс новая волна литературы... Плюс вздох страны! Страна-то вздохнула... Да, плюс еще один очень важный фактор. Вы поймите, в тот момент пошел атомоход, взлетел спутник, рвали впереди американцев в ракетах. Это действовало все очень-очень серьезно на формирование моего поколения. Спорт. Вы посмотрите страна-то выдала Власова. Не шуточки. - И какое представление у вас сложилось об этой стране в результате всего этого? Говорить о "представлении" очень тяжело. Мы были мальчишками. Но мы пытались реализовать все то хорошее, что, как нам казалось, было в этой стране. В нас. И реализовать как-то творчески. Сознательно пыталась реализовать? Да, сознательно. - В чем это проявлялось? Понимаете, ведь в тот момент, когда мы собрались все вместе, ведь нас толкнуло что-то друг к другу. А толкнуло что? Понимание, что каждый из нас может что-то почерпнуть друг у друга. Во-вторых, молодости нужно выговориться. В-третьих, молодости нужно выплеснуться не только в разговорах, но и в каком-то действии. Но не пойдешь же в такой расчудесной стране на студенческую забастовку. - Чем же вы занимались? Разговорами. Мы общались. Но теснота и замкнутость нашего кружка потребовала более высокого уровня организации, более реальной возможности выплеснуть себя еще перед кем-то. Было честолюбие.
Часть 2.
Б.ВЛАДИМИРСКИЙ: На эти литературные вечера, студию при Дворце студентов, я ходил класса с седьмого, может быть, с восьмого. До Михайлика руководил этим Сережа Александров. Вы, наверное, знаете, у него вышел сборничек в издательстве "Маяк", а сейчас он экскурсовод. Он очень симпатичный человек, мягкий, спокойный. И создал атмосферу какую-то очень дружескую и нормальную, и компания вокруг Сережи, как мне кажется, собралась неплохая. там было человек двадцать, собиравшихся раз или два в неделю и читавших стихи по кругу. Кто туда входил? Тот же Алик Бейдерман, Боря Вайн, Тата Сойфер, которая сейчас в эмиграции. Кто еще? Боря Спектор, Леня Заславский очень хорошо писал. Ян Топоровский, единственный, кто, по-моему, стал профессиональным поэтом. Леша Цветков тоже был в нашей компании. Каневский Ким. Конечно, Сережа Александров нас развратил. В том смысле, что он устраивал нам публичные вечера. Это было время, когда на вечера поэзии собиралась публика полные залы в школах, институтах, я помню вечер в Политехе с полным залом. На кого? На мальчишек! На литературную студию! Год спустя Окуджава приезжал такое же! Это было удивительно и жутко кружило голову. И была, конечно, борьба за то, кто эффектнее продастся залу. Номер "на фа" должен был идти последним, и шла борьба за то, кто позже выступит, я или Леня. У меня было то преимущество, что я вообще умел читать стихи, в том числе дурацкие или получше свои... И срывал какие-то аплодисменты, и Сережа Александров меня в конце выпускал на этих вечерах. И вы знаете, одно-два стихотворения люди вспоминают сейчас почти с умилением, хотя я, честно говоря, стыжусь перечитывать то, что я тогда писал. Б.ВАЙН: Где-то в октябре 64-го года мы пришли в литстудию взрослую, которая занималась во Дворце студентов. Номинально главой литстудии был Александров, хотя он был одним из многих собиравшихся там поэтов. Вот эта студия была огромная, туда приходило человек по 20-25. Там было довольно много колоритных личностей. Из известных сейчас в литературе людей там был Василий Афонин, тогда он был докер в одесском порту, ходил бородатый в каких-то немыслимо поношеных джинсах, худой. Писал стихи. Дружил с Олегом Луговским, который, говорят, племянник поэта Луговского. Он чрезвычайно утонченный человек, в очках с золотой оправой, с прической такой длинной и кудрявой. Мне сейчас кажется, что он писал лучше нас. Но это все-таки другие люди, они были много старше нас лет на 7-8. Был поэт Михаил Симоконь, про него существовало что-то вроде частушки: Говорил как-то дед, Был такой Морис Бенимович, автор знаменитой "Мясоедовской". Когда я его увидел, то оказалось, что я его давно знал, потому что он жил на площадке ниже моего дедушки, как раз напротив меня. Хотя он пел о Мясоедовской, но жил на Базарной. Был там Сеня Вирон одноглазый. Он был значительно старше нас, ему было лет 30. Он учился в медицинском институте и там же подрабатывал редактором многотиражки. Был совершенно замечательный человек Макс Фарберович, с которым очень дружил Заславский. Были многие другие. Б.ХЕРСОНСКИЙ: Была еще студия при Союзе писателей, совершенно особый мир, куда ходили шестидесятилетние, сорокалетние. Мне кажется, ей руководил Нечерда. Несколько раз на заседаних этой студии я был. Там звездами были Александров и Морис Бенимович. Бенимович был поэт неизвестный, но имя свое все-таки обессмертил. Знаете чем? Улица, улица, улица родная, Это Морис. Эту песню и поныне поют во всех ресторанах. И у меня такое впечатление, что вместе с романсами Лещенко эта песня останется жить в веках. И именно за эту действительно более ни менее удачную песенку его топтали так, как только могли топтать. И он даже писал извинительные стихи. Никто не печатал этих стихов извинительных, но я помню, что была статья об этой студии в какой-то местной газете, где прямо так и было сказано, что вот Бенимович, который совершил политическую ошибку, опозорив улицы Одессы, покаялся и в извинение написал проникновенные стихи. И дальше была цитата. Белые стихи были и, по-моему, тоже неплохие, но, конечно их сегодня никто не помнит и в ресторанах их петь никак невозможно... Мориса уже довольно давно нет, это был очень болезненный человек. Ему было года 42-43 когда он умер... Б.ВАЙН: Чем же мы занимались? Писали стихи, читали друг другу, в какой-то мере учились друг у друга и, конечно, выступали. Вот Владимирский говорит, что нас это развратило. Ну, может быть, развратило. Но нравилось выступать невероятно! Срывать аплодисменты. Я не знаю, как другие, я шел на эти выступления с огромной радостью. В силу нашего юного возраста, мы обычно выступали во второй половине вечера. В первой половине читали маститые. Ну, во второю половину мог попасть Афонин со своим стихотворением "Бульдозер".(Я его не помню, но помню сюжет: значит, пьяница заснул на улице, держа в руках бутылку, проснулся и увидел, что на него идет бульдозер, и он размахнулся этой бутылкой и швырнул ее, будто в танк, который надвигается на него. Очень было знаменитое стихотворение. Когда он выходил на сцену, вся публика кричала: "Афонин, прочти про бульдозер!") Читал Луговской, а потом выпускали нас. Мы все читали стихи, а Марик Боймцагер читал прозу (он стихов практически не писал, у него было несколько рассказов, очень напоминающий рассказы в "Юности"). Вообще он был чрезвычайно симпатичный мальчик в черном костюмчике, белой рубашечке, очень так нарядно одетый он срывал дикие аплодисменты. И под конец, последним номером программы, гвоздем, был Владимирский, который, несмотря на свою субтильность (мы все были худые, но он и я это были два наиболее худых человека), читал голосом громовым. У него была такая мощь... Он предельно четко акцентировал внимание зрителя на определенных местах стихотворения. И поэтому это был обвал аплодисментов. Может быть, это его развратило. Меня не развратило, потому что я аплодисментов практически не срывал. Вот так мы прожили год. Это был год 64-65-й, вот осень, зима, весна. Выступали мы за это время раз 10-12. А.БЕЙДЕРМАН: Мы часто собирались и выписали с большим удовольствием. Но выпивали мы не на студии, конечно. Мне запомнилось пьянство у "Бабы Ути". "Бабой Утей" назывался подвальчик на Ленина угол Дерибасовской (там есть кафешка до сих пор). Там подавали шашлыки и сухое вино, это было замечательно. И вообще, вы знаете, вина было хоть залейся. Стоило оно фантастически мало, и, кроме того, опять-таки я сбиваюсь в сторону от литературы, но с большим удовольствием вспомню дело в том, что было очень много, как мы называли это дело, винарок... Самым ярким человеком в этой студии был Борис Владимирский. Он писал очень неплохие, очень бойкие я бы не хотел, чтобы это прозвучало иронично стихи. Я кое-что даже помню до сих пор. И кроме того, он в отличие от всех нас имел очень хорошую семейную базу. Отец у него был Абрам Аронович Владимирский, известный в Одессе литературовед, прекрасный бабелевед и очень хороший лектор. Боря унаследовал очень много от него, и сейчас, когда стали постарше, я вижу, что он приобретает его черты чисто внешние. Он был очень щуплый мальчик в юности, а Абрам Аронович был такой огрядний, как говорят украинцы, мужчина. А теперь Боря тоже... как папа теперь. Б.ХЕРСОНСКИЙ: Боря Владимирский писал стихи в то время, когда учился в 10 классе. Писал стихи очень яркие, очень взрослые, и когда в 116-ю школу приезжали официальные поэты на поэтические вечера и Боря там же читал свои стихи, он их бил, как хотел. Я до сих пор вспоминаю Александру Михайловну, которая, всплескивая руками, говорила: "Он их всех забил, он их всех забил!" Я пытаюсь вспомнить стихи Бори того времени... Было что-то такое: В меня влилась широкая река. Я просыпался ночью среди звезд, Потом было популярно в Одессе его стихотворение "Аты-баты": Аты-баты, шли солдаты, Речь шла об отступлении армии в начале войны на Восток, Земля крутилась со скрипом, и солдаты тоже шли на Восток... Эти стихи очень хорошо воспринимались. В общем, Боря писал стихи, если учесть, что это был 9-10-й класс, очень серьезные. Уже на первом курсе, если я не ошибаюсь, Боря стихов не писал, или по крайней мере их не читал. Мы недавно встретились, разговаривали, и я просил его, чтобы он вспомнил, что писал и попытался бы все это собрать... Он вспоминал об этом с некоторой лиричностью, но я не чувствовал никакого желания что-то действительно собрать. Я пришел к выводу, что чем дальше от нас то время, тем с большей нежностью мы о нем вспоминаем, но тем с большим отвращением читаем тексты, которые тогда писали. Ю.МИХАЙЛИК: Это было то, что Евтушенко когда-то назвал "поэт в России больше, чем поэт". Это просто в связи с тем, что не было никаких других... ни газет, ни парламента, ни публицистики, все это сводилось к поэзии. И в поэзии отыскивали даже то, чего она сама не имела в виду. Отсюда тот бурный, шумный, фантастический, немыслимый вообще в истории поэзии успех, выпавший на долю Рождественского, Евтушенко, Вознесенского. Сегодня мы читаем эти стихи на них балдела страна! которые читали с каждой эстрады... Плохие стихи. Просто плохие стихи. Я думаю, что на самом-то деле лучшие времена для поэзии это когда она просто поэзия и ничего более. Когда на нее не нагружают то, что она нести не должна. Она и так достаточно загружена. Попытка привести человека в гармоническое соотношение с миром выше любых политических проблем... Б.ВЛАДИМИРСКИЙ: В те годы я был склонен к точным наукам, отчего и перескочил в 116-ю школу, которая занимает особое место во всем этом. Это, конечно был рассадник и по качеству учителей и по отобранности учеников. Эта школа появилась благодаря энтузиазму нескольких человек и прежде всего директриссы, Алевтины Ивановны Кудимовой. Это все она. Она собрала вокруг себя нестандартных учителей, все лучшее, что было в Одессе. Это началось в начале 60-х. Алевтина Ивановна один из энтузиастов хрущевского движения, причем в официальной его форме. Она энтузиаст партийного толка была, но из этого получилось много пользы... Хотя потом в школе у меня с ней были очень резкие столкновения. Она выпустила из бутылки того джина, которого сама потом хотела бы загнать назад. Но надо отдать ей должное, она это делала без применения слезоточивых газов. Хотя я плакал однажды в беседе с ней, четырехчасовой беседе в кабинете, наедине. Это очень смешная история, она относится как раз к 64-му или 65-му году. Тогда происходило возрождение Одесского ТЮЗа. Там работал Володя Пахомов (он сейчас в Липецке, главный режиссер Липецкого театра, стал плохим режиссером, с моей точки зрения, за что и получил государственную премию). А тогда он начинал в Одессе, приехал из ГИТИСа, учился там у Эфроса, Гончарова, привез столичные идеи, леворадикальные по-своему... И он поставил несколько спектаклей, всколыхнувших город. (В ТЮЗе, в этом несчастном зальчике!) Он поставил "Они и мы" Долининой, "Пузырьки" Хмелика, поставил "Город без любви" Льва Устинова. Вот три спектакля, вокруг которых все завертелось. "Они и мы" это на школьную тему спектакль, но впервые привносящий политические мотивы. То есть главная идея в том, что нет морально-политического единства даже в одном отдельно взятом классе, а есть "мы" и есть "они". Ну, как тогда говорилось, "мещане", "захребетники", "карьеристы", примерно как в розовских пьесах того же времени. Не было представления о политическом размежевании, нет. Сперва по моральному принципу, но политический подтекст уже как бы ощущался. Наталья Долинина человек очень мною уважаемый, и пьеса была достойной, как мне кажется. Ну, наивная, как многое в те времена, но она всколыхнула, очень всколыхнула и как-то пришлась на настроения наши тоже отчасти романтические и отчасти критические. Пахомов организовал диспуты вокруг спектакля, обсуждения. Оставались специально после окончания труппа, зрители, он сам. Я ходил на два или три таких обсуждения. Надо сказать, что я в это время уже набирал какую-то такую ораторскую способность. Я от студии выступал со стихами по всем площадкам, уже успел вкусить успеха, был любимцем публики, очень быстро прорвался на первые роли, и это меня как-то немножко развратило. В общем мы сидели компанией своей из 116-й школы правее директорской ложи. Вел дискуссию тогда Аркадий Львов. В зале сидела разная публика, сидела Татьяна Андреевна Овчаренко, которая сейчас уже на пенсии. Она работала в Университете, с зарубежными студентами занималась, а до того была на месте Изувиты третьим секретарем по идеологии в горкоме. И была такая ситуация, понимаете... Языки развязались, пьеса наталкивала как-то... И я позволил себе выступление со сцены, соотнеся то, что в спектакле, с тем, что у нас в школе. И я про 116-ю чего-то там завернул, что на словах одно, а на деле другое, на уроках истории ерунду нам рассказывают и так далее... Я сейчас не помню содержание своего выступления, но, как по мне, оно было какое-то такое... отчаянно диссидентское. Я как в омут рухнул. А Овчаренко мне с места стала кричать: "Это неправда!" Она дружила с Алевтиной Ивановной и обиделась за нее: как, она, такая прогрессивная... вылезает сопляк... Что он несет вообще? Как он смеет?! Я не знал, кто такая Татьяна Андреевна Овчаренко ну, женщина сидит... Я ей сказал: "Подождите. Я скажу потом, если захотите, вы. А сейчас помолчите, пока я разговариваю». И скандал довершился еще тем, что после того, как я ушел в ложу, на меня и на всю компанию, которая сидела со мной и реагировала бурно на все это, попер Аркадий Львов. Он попер с какой-то ультрасоветской речью про то, что "они не уважают красный флаг"... Он был редчайший демагог и большая сволочь, хотя и одаренный литератор. Я понимаю, он увидел, что в этом двуединстве критико-романтическом мы накренили лодку в сторону критики. Тогда он стал кренить на другой бок в сторону романтики. А мы ему что-то кричали... Прямо как Учредительное собрание. Володя потом подходил, что-то говорил, жал руку... Он старался не встревать открыто, ему нужен был шум вокруг театра, он свое получил. На следующий день моего приятеля, который сидел во мной в ложе, Мишу Штудинера, Овчаренко вызвала к себе в горком. Он был старше меня на два года, в классе пионервожатых, то есть там была особая идеологическая работа... Она его вызвала и три часа ему делала головомойку. А меня вызвала Алевтина к себе в кабинет. И четыре часа она меня топтала, как петух курицу. Что она со мной делала! Это был первый раз, когда меня уничтожали. Она меня агитировала за советскую власть, она мне рассказывала, как и нас, в конце концов все хорошо. Все хорошо в национальном отношении, в социальном... "Взять хотя бы твою судьбу..». Делала она это энтузиастически и совершенно искренне. Она увидела в том, что произошло подрыв своей прогрессивности. Причем она поступила очень нечестно: в этот вечер у меня была игра КВН, очень ответственная, я должен был как капитан выходить на сцену Дворца моряков от 116-й школы. Она знала об этом. Но мы все равно выиграли. Вот такой эпизод тогдашней идейной борьбы. Это все на детском уровне, конечно, но тем не менее. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: У них там в 116-й математической школе были шефы китобойная флотилия "Советская Украина". И, значит, Борю Херсонского и Борю Бурду, двух гениев-евреев, пригласила директор школы и попросила, чтобы они написали им приветственную песню. И эти два сумасшедших идиота мало того, что они эту песню написали, они ее еще и спели. Скандал, говорят, был редкостный. А песня вот она: Мы идем туда, где торосы и льдины, У Бори Херсонского масса песен была хороших. Вот еще одна. У Хачкиса большая бакалея, Б.ВЛАДИМИРСКИЙ: С Борей Херсонским мы дружили в 116-й школе, он был младше меня на год, так же, как и Боря Бурда, так же, как и Леня Тульчинский. В 116-ю я пришел, когда ее закончил Фима Аглицкий. Фима Аглицкий был звездой номер один в 116-й и вообще, я думаю, в городе в это время. В нашей школе он был капитаном знаменитой команды КВН "Плюс-минус". Она была тоже, так сказать, центром школьной жизни. Когда я в 116-ю пришел, Фима как раз ушел, и "Плюс-минус" сдал Юре Конахевичу. И я у Конахевича был в команде, а когда он ушел стал ее капитаном. В "Плюс-минусе" были Боря Бурда и Боря Херсонский. Они с Херсонским сочиняли замечательные песни для наших представлений, очень смешные. Херсонский даже лучше сочинял. У него знаменитая песня была, которая, по-моему, до сих пор в Одессе народной считается, про то, как собрались антисемиты, "антисемит Абраша Рубинштейн" и как "лавочку еврея иванова на мелкие кусочки разнесли... Была еще замечательная песня про поражение советской футбольной сборной от ФРГ в каком-то чемпионате: Бедная советская сборная, Они писали для вечеров, для себя, и мы пользовали эти песни. Пели всегда. После любого вечера мы еще часа полтора-два стояли у фортепиано, где один из двух Борисов сидел и играл, и пели хором. Причем вперемежку пели и их, и Кима, и Окуджаву, не очень отдавая предпочтение Окуджаве. Тогда эти песни пользовались большой популярностью в 116-й и разошлись по городу. ЛЫНЮК: Кто мне больше всего нравился как поэт? А никто. Я не могу избавиться от юношеских воспоминаний. А к поэтам в силу своей бесталанности я всегда относился с трепетом (ну как же, у человека такой дар!). Но как я могу с трепетом относиться к Димке?! понимаю, что у него были хорошие стихи, были конъюнктурные, были за деньги... Было все. Жить-то надо было. Хорошие стихи писал Вайн. Они были самые неухоженные... Талант версификатора был свойственен Димке. За Шуриком было больше культуры, он читал больше. То же самое у Херсонского а ним культура и дар версификаторский, и честолюбие. А чертика нет. А у Вайна, знаете, дикий цветок, но какой красивый!.. ни все мои очень большие друзья. И остались на сегодняшний день большими друзьями. Когда Димка уезжал, я аж расплакался. Не знаю, может это всплеск какой-то сентиментальности старческой (все-таки мне уже полвека), но я разревелся... ХАЩЕВАТСКИЙ: Я пришел на конкурс... на заседание поэтов одесских... в клубе Дзержинского такое специфическое название, потом это стал Дворец студентов. И там Зеликовский читал свои стихи. Ему тогда было меньше 18, а мне 18, я уже, кажется, был женат... Стихи были скандальные: Мы верили, но мы сгущали краски, - А что за аудитория там была? Интеллигенты. Все, как один, интеллигенты. Это было потрясающе. И вот тогда я и познакомился с ними со всеми сначала с Димой Зеликовским, а потом с остальными через него. Позже выяснилось, что они его очень не любили. Ну, здесь надо честно, по-мужски, сказать, что они его не любили, потому что он всех трахал. Он ужасно любил трахать баб... А, естественно, ни один мужик этого вынести по-настоящему не может. Ну, а я не ревновал, поэтому мы с ним сошлись. Он очень хороший парень, но, к сожалению, он слишком рано начал продавать стихи. Есть очевидно для поэта какой-то барьер, за которым он может продавать стихи, оставаясь при этом хорошим поэтом. Димка этого барьера не дождался. Но лет 10 назад он приехал ко мне и поэтом он тогда уже не был и привез стихи: Храни, Господь, друзей моих, Я не знаю, хорошие ли они для меня очень хорошие. Потому что это обо мне.
Часть 3. Магадан, театр, трибунал
Б.ЗЕМЕЛЬМАН: Из Одессы в Магадан я уехал в возрасте 16-ти лет. Поэтому начало 60-х я почти не помню. Кроме возраста совсем подросткового еще, когда у нас были гульбища на бульваре, но окраски такой, так сказать, демократической это еще не имело. Потом четыре года Магадана, и где-то в 65-м году я вернулся в Одессу. И получилась ситуация: старые связи не все восстановились, а какие восстановились вдруг разошлись интересы. Конечно, были какие-то друзья детства. Была компания моего друга Сереги Кресса, был Юра Лынюк, еще ребята... Мы устраивали празднества, которые оформляли как, скажем, Малоарнаутскую конференцию или что-нибудь такое... Придумывали себе страны, тексты, издевались, подсмеивались друг над другом. Все это были такие милые внутренние игры. Душа искала каких-то, так сказать, интересов. Ну, литература... У меня в Магадане был скромный заработок, но я оставил общежитие, набитое литературой. Там с этим было проще в то время, и с подпиской там всегда было свободно. А здесь все эти штуки для меня были забыты. И совершенно случайно в 67-м году лето получилось у меня какое-то незанятое, я не знал, куда себя деть. Подошел отпуск, планы у меня были, но они рухнули. И тут идет парень гнусненький он был в детстве, я его не любил из прежнего моего двора, это Димка Зеликовский. В девичестве Вайнштейн. И он говорит: "Что делаешь?" "Вот, в отпуск хотел в Ригу съездить ни хрена не получилось. Что-то делать надо». А он говорит: "Знаешь что, плюнь на все, поехали на Бугаз. Отдохнешь хорошо, там вино хорошее. И никаких забот». У него там какая-то девица была, у меня ничего, все планы рухнули. Бог с ним! Взял пару книжек и поехал на Бугаз. Пробыл я там неделю. За это время получилось так, что у нас с Димкой как-то восстановились отношения. А я давно собирал музыку. Тогда классика никого особо не заботила, это через несколько лет было жуткое дело. С Юркой Лынюком слушали на уровне домашнего интереса... иногда филармония, там... Надо сказать, что театр одесский тогда выглядел скверно по составу, в филармонии тоже черт-те что было. Дима знал, что у меня пластинки есть. Потом, он поэт был, Дима, а я полагал сдуру, что в поэзии чего-то смыслю. Он иногда предлагал мне дать рецензию своим, так сказать, "творэниям", "глыбам". Ну, он гремучий очень товарищ, на мой взгляд, вторичный. Понимаешь, когда громкость звука важнее, чем содержание. Но неважно. Он очень хорошо относился к Лынюку и считал его чуть ли не гуру. А мы с Лынюком знакомы были где-то лет с девяти все друг друга понемножку знали. Но не одной кучей. И вот Зеликовский говорит как-то: "Я тут во Дворце студентов что-то вроде любительского театра делаю. Экспериментального. А ты петришь в звукозаписи, во всем этом деле, а я в этом дурак..». Меня совершенно подкупило, что Дима вдруг о себе сказал что-то критическое. И я принял участие. Прихожу. Кто там был? Почти все свои. Там оказался почему-то Бэби Вайн, который вместе с Зеликовским в студию Михайлика ходил, ну а раз так, то и Шурик Южный, а при Шурике Южном был, естественно, Славка Краснов, более мне известный как Слава Клен, такой русский человек с таким вот шнобелем. Там я познакомился с Юрой Хащеватским: "Хащ, Хаш!.». Потом явился Хащ. Кто там еще появился? Олег Сташкевич. Такой маленький, такой скромненький, но такой язвительный. О.СТАШКЕВИЧ: Я родился в 47-м году на Садовой в семье одесской номенклатуры. И отец, и мать перед войной работали в обкоме партии. Я прожил, в общем-то, достаточно буржуазное и благополучное детство. А в 62-м отца посадили. Он к тому времени уже работал в облместпроме а это артели... - Это экономические дела 60-х годов? Да, одно из первых. Во Дворце студентов был процесс, и отец получил здесь расстрел, и еще двое получили высшую меру. И это было, естественно, сломом судьбы. Отца помиловал Киев. Мать, надо отдать ей должное, просто спасла его. Он просидел почти 10 лет и вышел инвалидом. Из-за того, что отца посадили, мать занималась в основном его спасением, и через знакомых меня, чтоб я не болтался, хотя я был достаточно домашним, ужасным, то есть сытым ребенком, меня познакомили с Ритой Зализецкой, которая была зав. библиотекой Дворца студентов. То есть там была Рита Зализецкая, там был процесс отца, там же потом был КВН, театр... Ну, мест не так уж много в Одессе. И вот там сложился клубик такой, где были Боря Херсонский, Боря Вайн, Саша Бирштейн (Южный), Боря Земельман, естественно. Леня Заславский. Занимались разговорами, гуляньями, некоторые писали стихи. Молодость. Веселились... Б.ВАЙН: В 67-м году Дима Зеликовский при посредстве Сени Бульбы поступил наконец в институт. В ЛГИТМИК на заочный факультет на специальность режиссура ТВ. Этого было достаточно, чтобы не попасть в армию. Значит, Дима уехал Димой, а вернулся Бертольдом Брехтом. Если Брехт носил, кажется, кожаную куртку и стальные очки, то Дима приехал в зеленой куртке и темных очках. Он уехал обыкновенным поэтом, а вернулся великим режиссером. И тут же стал организовывать театр. И не простой, а сразу экспериментальный. И для этого театра он сразу написал пьесу, которую мы тут же должны были изучать и играть. Надо сказать, что на его зов пришло очень много людей. То есть тяга была колоссальная. Там же я увидел Зою, которая впоследствии дыла женой Миши Мельника, а теперь она моя жена. Ну, она походила и перестала, ей это было неинтересно. А нам было жутко интересно. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: В то время был пик любви к театру. Вот вы не знаете, что такое театр, ныне. Ну, абсолютно. Вообще, мне кажется, что показатель интеллектуальности общества это его отношение к театру. Когда люди свободны, когда люди любят друг друга, когда они умеют играть друг с другом они любят театр. И вот тогда мы начали любить театр, и мы организовали театральную студию. Первое, что мы вспомнили это Афиногенов. Когда он организовал студию подобную, то они вместе сочиняли пьесу. И мы стали писать пьесу. Мы придумали сюжет... Ну, ахинея, конечно, редкостная, смотреть этого никто бы не стал сегодня, но мы начали импровизационно писать. Каждому был дан свой персонаж, он должен был его придумывать, потом мы собирались (нас было человек 30) и придумывали, что там происходит. Ну, жанр это понятно: тут зонги, конечно, Брехт, конечно, все эти дела... Для нас это было очень ново и важно. Мы играли этюды, какие-то идиотские этюды типа "подводная лодка в степях Украины", кто-то изображал подводную лодку... Удивительно, но это было невероятно похоже на то, что я в театральном институте потом на себе испытал. В.ЗЕЛИКОВСКИЙ: Когда я поступил в театральный институт, мы с Хащеватским организовали театральную студию, даже начали писать пьесу, которая называлась "Государство", которую с блеском нам запретили. Потом второй спектакль, "Завтра" он назывался. Это первые мои две неудавшиеся пьесы. Потом было такое «Пять лирических преступлений с прологами и эпилогом» Это спектакль о гибели пяти поэтов Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского и Марины Цветаевой. - Этот спектакль был доведен до зрителя? Его запретили на стадии генеральной репетиции. - А кто запретил? Ну там... Позвонили и сказали: «Не надо». Ю. ХАЩЕВАТСКИЙ: Я считаю, театр во многом способствовал тому, что мы хоть как-то стали... Ну вот та пьеса, которую мы написали вместе, мы там зонги придумывали... Шура Южный, например, принес зонг «Из волчат не всегда получаются волки..». Я к нему музыку написал и из него песня получилась, очень хорошая песня... Из волчат не всегда получаются волки, - А пьеса шла эта? Никогда в жизни. Она и не должна была идти. Ее главное предназначение было чтобы мы ее придумали. Б. ЗЕМЕЛЬМАН: Я интересовался литературой. А мне говорят: "Там у нас Рита, там у нас Рита, а у нее там библиотека, там все нормально, там все хорошо». Библиотекой Дворца студентов заведовала такая женщина. Ей было лет 35, наверное. Такая у нее немножко луноликая физиономия, совершенно добрая, простая, семитская. Звали ее Рита Зализецкая. Значит, такая милая мягкая женщина, но при этом ощущалось, что там есть база, там есть вкус. И я посмотрел на эту библиотеку Дворца студентов! Я увидел отбор литературы. Это было совершенно великолепно, мне это очень понравилось. Такой вдруг оазис. И я чего-то промямлил. «Ух, хорошо бы здесь, пробормотал себе под нос, еще бы фонотеку иметь вот это был бы блеск». Она услышала. Говорит: "Что вы там бормочете?" "Вот про фонотеку». "Ага, а ну скажите это во весь голос». Ладно. "Давайте вернемся к этому вопросу через два дня». Когда я пришел, она повела меня к Саше Виноградскому. Очень симпатичный Молодой человек, исполнял обязанности директора Дворца студентов. "Я вообще слабо в этом понимаю, сказал он, но мне нравится. Вот у нас кое-какие деньги есть, если хотите займитесь. Давайте сделаем фонотеку». Б.ВАЙН: Мы ходили в библиотеку Дворца студентов. Там действительно собиралась огромная компания, очень пестрая: там были поэты, художники, музыканты, просто интересные люди. И мы там просиживали допоздна. Рита уходила с работы в одиннадцать-полдвенадцатого вечера. Можете себе представить. А днем мы ее уже атаковали. Это тогда мы познакомились с Крапивой, со Сташкевичем вот со всей этой командой КВН. Там и Волович был. О! И зимой 67-го года я познакомился с Хащеватским. Тогда же сошлись две компании Миши Мельника и наша. - А что такое компания Миши Мельника? Это был он, его друзья и одноклассники. Игорь Люблинский, Витя Инберг, Сережа Ашкенази. Их девушки. а с другой стороны была наша компания: Зеликовский, я, Южный, Юра Лынюк, Витя Власенко, Боря Земельман... 67-й год это год библиотеки. Б.ЗЕМЕЛЬМАН: Несмотря на то, что я пришел ради театра, я кинулся организовывать фонотеку. Деньги получили, надо было что-то делать. Нетерпение, кипение... Рита вовсю участвовала. Надо было по перечислению купить аппаратуру, отобрать пластинки... Целое дело. Надо было это предварить чем-то, я ведь не музыковед, я энтузиаст. Ну, и Рита нашла несколько человек. Очень понравился ей (а потом и мне, а потом и всем) такой студент выпускного курса фортепианного отделения консерватории Юра Кудлач. Он был совершенная прелесть, мужик великолепный, ничего официального в нем не было, вплоть до пиджака. Он создал атмосферу определенную. Очень помогала Зоя Ивницкая. Она художник по костюмам в Оперетте, очень талантливый человек. Кстати, большая подруга Риты. Вообще, компания была интересная. Я помню, как мы открывали этот Клуб любителей музыки, как мы его называли. Ну, уже тогда редактировалось, уже тогда все причесывалось, но еще разрешалось... - Кем причесывалось? В клубе никем. Но мы, допустим, заказывали пригласительные билеты на открытие, кто-то придумал "Клуб шарманок и фисгармоний", какие-то еще надписи... И вот те, кто должны были печатать эти билеты, говорят: "Не, товарищи, ну как же такое серьезное дело, дело воспитания нового человека, а вы вдруг такое... " Ну, в общем, открыли мы это дело почему-то "Реквиемом" Моцарта, но на закуску у нас была "Порги и Бесс", и мы это дело послушали. И вот так оно пошло. Почему это было интересно? В первую очередь атмосфера никакой казенцины, свобода. То, что долгое время пытались сымитировать всякие "Огоньки", у нас получалось само по себе, потому что никто особенно не старался ничего делать. Как-то это тянуло, хотя мы были оборудованы весьма средненько. Дело дошло до того, что из Университета к нам сбегала целая группа германо-романская во главе со своим преподавателем. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: В этом клубе был гениальный человек Боря Земельман. Он гений вот в каком смысле: в свое время именно он меня научил музыке. Я совершенно свободно играл на фоно, я могу сыграть все, что я хочу, я даже не знаю почему, я, наверное, какой-то идиот. Один раз меня полгода мать водила к учительнице, и лет через восемь я занимался с учителем, который очень хотел, чтобы я пошел в консерваторию. А Боря Земельман ничему этому не учился. Но однажды я пришел к нему, и он мне сказал, что вот, классическая музыка... Я посмеялся я ее не любил и не понимал. И тогда он мне поставил ансамбль, с которого и началось мое увлечение классической музыкой, до сих пор не окончившееся. Это небольшой ансамбль, который поет Баха, Моцарта, у них есть ударник, это все как бы очень современно, но на самом деле они поют классические вещи. Боря Земельман заставил сеня их выслушать, после чего поставил оригиналы того, что они поют, и я ох…л. Он медленно, спокойно, ненавязчиво ввел меня в этот мир. Он был в клубе любителей музыки. Я туда тоже, наверное, приходил, но приходил, конечно, пьяный, я кричал, что я их всех... или еще что-нибудь, потому что я ужасный был хулиган и это... противно сейчас уже вспоминать... Б.ЗЕМЕЛЬМАН: Короче говоря, этот клуб стал существовать, и возле него интересные возникали вещи. - Он существовал параллельно с театром? Да, театр на заглох, но дело в том, что театр никак не мог выйти на что-то серьезное. Он просуществовал меньше, чем клуб меньше года. Если что-то и делалось силами театра, то не в рамках театра, а в каких-то параллельных штуках. Ну а клуб существовал сам по себе, а меня это очень занимало. Очень многие ребята, которые вообще ни ухо, ни рыло в музыке, стали чего-то соображать. Юрик Хащеватский, в частности. Он очень неплохо гитарой владел и фоно, но к серьезной музыке относился крайне негативно. А тут он сел на нее буквально. Я его, между прочим, прикупил именно через музыку ХХ века. Движениям такого рода тогда повезло в чем? Идеологизация была, но достаточно мягкая. И тогда существовало убеждение, что нужно устраивать клубы по интересам. У официальных властей. Вот тогда была такая "вказiвка" на каком-то уровне дана, а потом Политбюру и прочим делам было немножко не до того. В эти клубы по интересам такие вот энтузиасты шли. Битл-клуб это было вообще обалдеть. Ну, это на грани скандала. Но меня это мало интересовало. Был Клуб любителей кино тогда при Дворце студентов, мы его посещали. Там показывали действительно, на мой взгляд, лучшие фильмы того времени. Тогда я услышал имя Владимирского. Вообще, много было занятного.
Часть 4.
Б.ВАЙН: Если мне память не изменяет, после летних каникул 68-го года начались занятия в литстудии Михайлика. Ну, кто ее посещал? Из старого состава, из студии Александрова ходили Шура, Дима и я. Но Дима редко. Он был очень занят театральными делами. Были там Заславский, Каневский, Гаррик Гордон.Был в этой студии Бейдерман, Коля Базилев. Женская часть это была Оля Скибина, была девочка из сельхозинститута, ее звали Юля Цыбук, которая писала украинские стихи. Через некоторое время, по-моему, в конце 68-го года в студию пришел Херсонский с Пахомовой. Они пришли вдвоем, они очень дружили друг с другом, настолько, что потом поженились (чему я способствовал, потому что был у них свидетелем). Ну вот, кажется, все. Если я кого-то упустил, пусть меня простят. Б.ВЛАДИМИРСКИЙ: Вдруг что-то изменилось: Сережа почему-то стал уходить, то ли его ушли, то ли он не мог больше вести студию. И пошли слухи: будет руководить Михайлик. Вы его знали уже? Страшные слухи только носились. Никто ничего не знал! Страшный, лысый, старый, хотя он ненамного старше на десять лет но! Тогда это огромная разница тебе даже нет семнадцати, а ему под тридцать. Во-вторых, лысый уже! Уже лысый! Злой, саркастичный, уничтожает. Сережа был добрый... А тут слухи пошли: придет, растопчет, унизит... Очень страшно было. Кто-то ушел тогда из студии, но я остался. Мне было любопытно, интересно, а кроме того, я был очень уверен в своих стихах, очень. Но Юрий Николаевич оказался нормальным совершенно, живым человеком. С чувством юмора, которое мне оказалось очень близким. И я у него страшно многому научился, страшно многому. Я считаю его своим учителем номер один. Меня т а к учили только два человека в моей жизни: он и моя профессор в институте Анна Владимировна Тамарченко. Но с ней я другом не стал, а с Юрой вот стал другом... У нас с ним возник контакт, ему некоторые мои стихи нравились тогда. Ему больше всего нравилась "Баллада о синих штанах", ему что-то фламандское там почудилось. Он меня научил жесткости, какой-то определенности. Он очень жестко анализировал стихи, куда жестче, чем Сережа, и создал более профессиональную атмосферу. Она стала более... такой танкодром. И Алик Бейдерман оказался высмеянным за свою знаменитую строчку смертельно. У него была поэма из древнерусской жизни с незабываемой строчкой: "Князь крепче сжал руками стремена", которая вошла в анналы. Ну, он неточно представлял себе, что такое стремена. Алик вообще это был наш инфант, это такой ребенок, который культивировал в себе детское начало, над которым все смеялись, который обижался, но все время подставлялся с удовольствием, я бы сказал. Алик это трогательное существо, совершенно трогательное... Я его люблю за то, что о чем бы ты с ним не говорил, и когда бы это не происходило, на пятой фразе ты выходишь на одну и ту же тему всегда. Эта тема Алик Бейдерман. Практически ни о чем другом с ним разговаривать невозможно, но на эту тему он говорит умно, интеллигентно, со вкусом. Разговаривать с ним об отвлеченностях нельзя. Он занимался философией, занимался языками, писал, мечтал, что станет поэтом, прославится, и поскольку на русской почве у него это не вышло, он выучил идиш специально, и теперь стал советским еврейским поэтом. Но я его все равно люблю как курьезное нечто такое, но родное. А.ЮЖНЫЙ: В 68-м году мы ходили во Дворец студентов. В это же время ко мне как-то пришел Боря Вайн и говорит: "Михайлик организует тут студию, приходи..». И я пришел. Михайлика еще не было, но был Владимирский, он меня познакомил с Борей Херсонским, ужасно угловатым, но симпатичным, и Таней Пахомовой. Когда мы все первый раз собрались, мы решили, что новых членов будем принимать только открытым голосованием: человек к нам приходит, читает пять стихотворений, после этого мы голосуем, если большинство "за" человека принимаем, нет ну что ж... Сначала это требование жестко соблюдалось, а потом режим, так сказать, мягче стал. Кто еще туда ходил? Ким Каневский (конечно, самый лучший тогда среди нас поэт), Леня Заславский, Толик Гланц я тогда стихи его не знал, он позже начал их показывать, но потрясающие рассказы писал, потрясающие! Еще был такой он в Америке сейчас Боря Горбис, он на теплофаке учился у нас в техноложке. Мы устраивали обсуждения. Все новое, что было написано и читалось и обсуждалось. Я помню, как меня страшно проваливали на обсуждении моих стихов, как-то уничтожили буквально... Б.ВАЙН: Занятия проводил Михайлик. Он давал довольно грамотные оценки нашим стихам. Во всяком случае, мы у него почерпнули гораздо больше, чем у Александрова. Ну, он сам поэт значительный. Он сам очень многое нам читал, но в основном занимался анализом наших стихов. Существовала определенного рода конкуренция каждому хотелось на следующее занятие принести что-нибудь лучшее, чем у других. Кроме того, на занятиях каждый был в какой-то мере обязан выступить и высказать свое мнение о стихах товарищей. Перепалка зачастую была довольно серьезная, а добиться похвалы было очень и очень приятно. Потому что судьи были строгие. Что еще было приятно в этих занятиях это прекуры. Мы отходили от стихов, говорили о чем-то... А иногда бывало так, что во время перекура находило, и он читал стихи. Он меня совершенно потряс однажды: во время перекура он прочитал "Мандалей" Киплинга; этот перевод я нашел в книжке 36-го года и не удосужился переписать. Все остальные переводы, которые я читал, мне кажется, хуже. Мы выписали время от времени. Покупали вино (оно было дешевое)... - Прямо там? Да, бывало и там. Мы иногда ходили в открывшийся на морвокзале бар. Бутылка водки "Охотничьей" или "Рижской" стоила где-то 2.60. Внизу играл оркестр. Эта водка наливалась в крошечные стаканчики и закусывалась сыром или лимоном. Короче говоря, за рубль можно было отлично провести вечер. Б.ХЕРСОНСКИЙ: По сути дела, студия это люди. То есть речь шла о группе людей, которые между собой общались, которые вместе веселились... Юра был тогда очень молод тоже, хотя уже лысоват. Я с ним познакомился в 67-м году. Но теснее мы сошлись в 69-м году, когда я вернулся из Ивано-Франковска, где я учился. Короче говоря, это была компания, состоящая из кого? Леня Заславский, Боря Вайн, Ким Каневский, я... Затем была Татьяна Пахомова. Толик Гланц пришел позднее в эту студию. Значительно. Я вспомнил еще одного человека, который ходил в студию Михайлика. Это Шурик Бирштейн. Он и поныне живет в нашем городе, и фамилия у него по-прежнему Бирштейн. Но как поэт фамилия у него была Южный, он был единственный обладатель псевдонима. Псевдоним он заслужил кровью, поскольку в ресторане "Южный" (ныне "Кавказ") он был как-то побит. Это боль, но так же действительно было, и все наши прозвища они вот такого рода... Я своего прозвища, пожалуй, даже не помню. По-моему, усеченная моя фамилия Сонский. Вот так усекли, более вежливо. Вайн был Бэби, а Леня Заславский не имел прозвища, по-моему... Здесь начинается то, о чем вроде бы говорить нельзя о том, как, скажем, били кого-то в ресторане... Или был вспомнил еще один человек Вадим Зеликовский. Он стал известен как автор текстов в бессмертном мюзикле "Приключения Петрова и Васечкина". Ну вот опять-таки, воспоминания о том, как белели его зубы в кустах рядом с пробкой такой же белой "Алиготе", которую он стаскивал, тоже не имеют отношения к литературе... Ю.МИХАЙЛИК: Году где-то в 63-64 (а может, даже попозже) я начал вести эту студию при Дворце студентов. Ну, для меня это был заработок, я и сам тогда был очень молодой человек... - Александрова вы знали? Сережу? А как же. Сережа Александров ходил в эту студию при Союзе писателей. Сережа Александров это, по-моему, никакой вовсе даже не поэт, а просто такой квадратный человек, работавший в экскурсбюро, писавший очень плохие стихи. Я к Сереже Александрову никогда всерьез не относился, я знаю, что он тоже там чем-то руководил... Ну, и как-то, знаете, начали подбираться ребята. Я этими ребятами был тогда очень доволен и очень горд, хотя, как выяснилось, поэтом никто из них не стал. Наиболее интересные и наиболее талантливые были: Алеша Цветков (он стал пэтом, но не здесь), Боря Владимирский, тогда очень яркий; Боря Херсонский. Прилично писал стихи Алик Бейдерман, хотя с ним бывали всякие очень смешные курьезы в связи с темнотой и общей безграмотностью. "Князь крепче сжал руками стремена..».? Потом выяснилось, что он имел в виду удила. Но тут ему объяснили, что и удила руками не сжимают. Ну вот, был Боря Вайн, такой флегматичный человек, я его и сейчас иногда встречаю. Был Вадик Зеликовский напротив, чрезвычайно живой человек, но там ясно было, что это... безрезультатно. Был Ким Каневский, человек одаренный, занимающий сегодня какие-то крайне фашистские позиции... Занятия у нас были интересные, разговоры были интересные. Ну что такое вообще студия? Это ерунда "мэтр", "учитель"... Студия существует тогда, когда людям интересно друг с другом. Не с учителем, не с преподавателем, не с наставником, я вообще не верю, что кто-то кого-то может научить писать стихи. Человек может научиться сам. И для того, чтобы он сам мог научиться ему нужны еще какие-то люди, которым это интересно. Студия это временный момент, рано или поздно его нужно перерасти Тогда человек уйдет по своей одинокой дороге и ему уже не нужен будет никто ни контроля сидит в тебе самом. Поэтому я очень естественно относился к тому, что вот есть студия, а есть какие-то люди, которые хорошо пишут и не ходят в нашу студию. Я с ними общался, приятельствовал... А.БЕЙДЕРМАН: Понимаете, я помню атмосферу тех лет, помню постоянное гнетущее отравленное чувство того, что за нами следят. Мы говорили довольно вольно, но всегда с оглядкой. Наверное, мы даже и во сне об этом помнили, что ничего нельзя. - А слежка действительно была или вам казалось? Была. Действительно следили и были очень внимательны. Здесь, в "Красном" раньше бар был неплохой на первом этаже. Ему какой-то колорит придавало, наверное, соседство Спiлки письменникiв и худфонда. Туда заходили художники, писатели... Какие писатели были, такие и заходили. В этом баре можно было проторчать полдня и за рубль пятьдесят выпить две маленькие рюмки коньяка да еще кофе. Все это было страшно хорошо, но дело не в этом. Мы совершенно четко передавали друг другу, что под каждым столиком в "Красном" установлен микрофон. Нас слушают. Все это может показаться чушью собачьей, идиотизмом, но мы в это верили, потому что это было недалеко от действительности. Хотя, я думаю, что им не надо было ставить микрофоны, у них были свои осведомители. Ю.МИХАЙЛИК: Студия продолжалась несколько лет, года три-четыре. В какой-то момент я утратил к этому интерес. И ребята утратили к этому интерес. И Дворец студентов не хотел платить за это деньги. Если бы просто Дворец не хотел платить, мы бы нашли себе другое пристанище. Но студия изжила себя, просто сама себя изжила и естественным образом прекратилась. - То есть не было какого-то подавления извне? Ну что значит "подавление извне"? Я прекрасно знал, что в этой студии есть кто-то, кто ходит туда не только для того, чтобы говорить о стихах. Я знал, что это обязательно есть, потому что этого не могло не быть. Везде, где собирались интеллигентные люди и начинали о чем-то разговаривать, обязательно существовало это недреманное ухо, этот зоркий глаз или как там это еще называют. Я старался, чтобы на самой студии не происходило ничего такого, что могло бы вызвать неприятности. Б.ХЕРСОНСКИЙ: Студия Михайлика устраивала поэтические вечера во Дворце Студентов, в различных клубах, вечера, на которые ходило огромное количество молодых людей. То есть это были какие-то микролужники. все это пользовалось огромной популярностью, писались записки из зала, назначались какие-то встречи, разговоры... Это было очень знаменательно. Но я помню конец всей этой поры, когда стихи писались значительно лучше, а народу было значительно меньше. полупустой темный зал, где сидит человек 50, несколько ребят на сцене. И вдруг я услышал женский визг, крик: "Товарищи! Это невозможно, здесь крысы!" И, словно подтверждая истину этих слов, выскочил в проход здоровенный пацюк, прижавший уши к спине, и погнал прямо от сцены к выходу. Вот эта прекрасная эпоха закончилась, а студия продолжалась. Но уже где-то году в 72-м на такие вечера почти никто не ходил. Переменилось время, и вот этот заряд 60-х годов, увлеченность открывшимся литературным многообразием, начали потухать. Те, кто давал большие обещания вначале, перестали их выполнять. То есть многие ребята, которые казались чрезвычайно яркими, талантливыми, начинали выдыхаться и сходить с дистанции... Будем говорить так: была ли альтернативная литературная жизнь в Одессе в то время? Существовало ли нечто такое, что смогло бы дать какую-то плеяду поэтов, аналогичную тому, что было в 20-е годы? Я думаю, что нет. Но на том фоне, на котором все это начало разворачиваться, а потом свернулось, то есть на фоне абсолютно бездарного официоза, где не было ни одной искры, ни одной удачной строки, то, что происходило в этих студиях, было в какой-то степени значительно. Это была почва, на которой, если бы дали спокойно жить, могли бы действительно вырасти один или два настоящих поэта. Это была естественная литературная среда. Все остальное было неестественное. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: Сережа Александров писал стихи и долгое время пытался вступить в Союз писателей. Здесь ему не светило, но у него появилась надежда в Союзе писателей Молдавии... - А почему здесь нельзя было? Потому что кто здесь всем заправлял? Люди типа Лесковского, если вы помните такого. Это была фантастическая фигура. Он работал журналистом в Новороссийске, написал там три книги, а редактором у него был Брежнев. И когда Лесковский хотел объяснить всем, кто он такой и что "ребята, давайте не будем", он доставал эти свои три книги и показывал. Так вот Сережа Александров поехал в Кишинев поступать в СП. Ну, вот приехал он (его не приняли) вывалился пьяный из поезда и произнес тост: Меня не балуют наградами, Вот так.
Часть 5.
А.ЮЖНЫЙ: Это были лучшие годы. Было огромное количество симпатичных тебе единомышленников талантливых, веселых... Какая была потрясающая компания. Она иногда была большой до тридцати человек, иногда уменьшалась до десяти, но вот я где-то с 66-го по 69-й год не могу вспомнить ни одного дня (может, за исключением времени, моей дипломной практики), когда бы мы не общались. Ни одного. И даже когда я был на практике, ко мне Сташкевич приезжал, ко мне Краснов приезжал... Ну, не мыслили мы как-то жизнь друг без друга! Каждый день, как наступает вечер, уже совершенно неудержимо во Дворец студентов тянуло. А что там? Никто не знал, что будет сегодня, но что-то придумывали себе. Придумывали конкурсные вечера какие-то потрясающие, праздники устраивали... - Вы себе будущее как-то представляли? Да, наверное, никак. Жили и жили... Я думал над этим, поэтому так сразу и ответил. Наверное, никак. Казалось, что все это совершенно незыблемо: вот так оно все и будет, вот так мы все вместе будем... Б.ЗЕМЕЛЬМАН: Как-то у нас была шутейная встреча Нового года... Это была встреча какого? 69-го Нового года. Мы встречали его где-то на проспекте Шевченко. Нам какая-то из девиц из студии киноактера предоставила фатеру, и там как раз Борька Макаров был в пьяном виде, он тогда разошелся с Познышевой и у него был неудачный роман с Ржепишевской. Да. Красивая у него была первая жена Познышева Людка... И вот мы там устроили символический прием в Клуб Любителей (не музыки, а вообще любителей. Под это дело был написан гимн, назывался он "Наше гимно". Написан он был на мотив"Авиамарша", а слова примерно такие: Мы много пили, любили
понемногу, и так далее. Так вот при приеме в этот Клуб Любителей сажали на такой маленький горшочек (микро) и чем-то по голове ударяли, сковородкой чи шо? я подробностей не помню. Должно было зачитаться не менее одной (а чаще больше) характеристики: характеристика официальная, характеристика с мест... В общем, там был целый ритуал разработан. Самая кототкая официальная фарактеристика была на Сташкевича. И была написана им же. Звучала она так: "Похож на Наполеона. Лечился». Самое интересное, что это была правда насчет "похож на Наполеона", потому что он был очень раним и самолюбив и очень переживал в первое время из-за своей коротышности. Вообще был зловредный... Но к нему хорошо относились, и даже если он очень злился, как-то это все проходило. И постепенно он принял этот тон, который господствовал в компании тон доброжелательности. А вообще он взрывной такой мальчик. Ну, собственно, Хащ тоже взрывной, но совсем другой: вот в Хаще этой заданности не было. Еще мы очень любили разные переплеты песен. В пьяном виде у Хаща нас иногда набиралось человек 20-30. Там такое иногда творилось, что жуткое дело! К нам периодически наезжала в гости Нина Кашежева, которую здесь напаивали совершенный атас. Ну и потом Хащ возьмет гитару: А вдоль манежа конница идет Были еще песни псевдореволюционные, написанные так сказать, к юбилеям различными одесскими поэтами. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: Реакция на события была совершенно сиюминутная. На 50-летие советской власти Сережа Александров написал романс, я его всего не помню, но очень был смешной. Ну как "смешной", он был грустный... грустноватый такой... Ну что ж, мой друг, как
прежде пошути, Ну, за эти песни нас тогда по головке погладить не могли. А когда уже эта песня пошла "А помнишь, Вася"... Ее Макаров с Воловичем написали на 50-летие. Но она жутко матерная, я предупреждаю. "Воспоминания двух старых большевиков на 50-летие советской власти, когда уже выпить было нечего": А помнишь, Вася, какое
было время... Городового ебнули наганом, А потом к этой песне уже народ дописывал... У нее, наверное, на сегодняшний день штук 150 этих куплетов. Собрать их невозможно все придумывали. Это в 67-м году. Юра Макаров, который был в нархозе капитаном КВН, и Юра Волович. Наверное, слово "ебнули" писал Волович, а все остальное Макаров. Реакция на события следовала незамедлительно. Вот когда была холера в Одессе, в день, когда ее объявили, везде, по всем магазинам, было дешевейшее сухое вино. Мы, конечно, все набухались, и Боречка Херсонский написал песню: Ваше благородие, госпожа Холера, Судя по фамилии, вы сестра Насера. Девять граммов хлорки в арабский коньяк, Не нужна касторка, хорошо и так. Девять граммов хлорки в арабский коньяк, Не нужна касторка, пронесет и так. Ваше благородие, госпожа Могила, ну, и т. д. Холеру в Одессе все вспоминают с удовольствием... Да, было прекрасно. Представьте себе: город заперт, толпы безумных женщин, которым негде ночевать, масса сухого вина... Разве могут быть лучшие времена? Могут разве быть для Одессы? Что вы! Это было... это было очень хорошо. Б.ЗЕМЕЛЬМАН: Издевались, как могли. Растем в диаграммах, на планах
растем. Ведь нам осталось пить, Это из песни о Военно-Грузинской дороге. Мы пародировали, кого могли. Вот Высоцкого пародировали и даже передавали пародию ему (помню Южный отвозил). У него есть песня "Парус", которая не совсем вписывается в его творчество, такая песня-настроение. Помните?" А у дельфина взрезано брюхо винтом..». Ребята на это дело взяли и написали галиматью такого типа: А у пингвина связаны уши бантом, - А Высоцкий прочел пародию? Да. И смеялся, говорят. Немножко, может, обиделся. И много, много таких пародий было. Хащеватский еще к тому же импровизировал, иногда к этому присоединялся Мельник. Они могли переплести, допустим, какой-то совершенно пошлый шлягер, салонное танго, с "Интернационалом", гимном Советского Союза. Весело было. Ну, определенная богемность была... Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: Я еще одну песню Херсонского вспомнил. Это они со Славой Харечко в Москве на КВНе, когда готовились, поспорили с ним, кто сумеет лучше пародию на Высоцкого сделать. Ну, он тогда был жив еще. Я не помню Славки Харечко песню, а Борину помню. - Про дельфина? Эту мы сделали все вместе. Если разобраться, песня идиотская. Великий Высоцкий писал очень много идиотских песен, одна из них это с этим дельфином. А у дельфина Вот такое мы написали. А Боря написал хорошо. Вот эта сказка: Мать-героиня козочка А в этом мире наяву, И у Славки была хорошая песня, но я ее не помню. А потом Славка погиб, так что уже, наверное, ее не восстановить. Б.ХЕРСОНСКИЙ: Мы охотно разыгрывали Юру Михайлика. Он почему-то очень серьезно реагировал на розыгрыши. Его первой ласточкой, запущенной к Юре еще в 67-м году (то есть мы еще учились в школе), был Миша Шварцбурд, у которого было больше волос на голове, но в основном он изменился с той поры мало, типическая внешность у него уже была. В то время как раз в журнале "Октябрь" была опубликована совершенно дикая статья против Андрея Вознесенского. И Миша пошел к Михайлику с этой статьей и двумя стихотворениями, которые я написал под Вознесенского. Расчет был чрезвычайно прост: Михайлик скажет, что стихи написаны под Вознесенского, а Шварцбурд скажет, что Вознесенского не любит, принципиально не читает и начнет тыкать Юре статью в "Октябре". Что и было проделано с немалым успехом. Еще из пародийных стихов того времени: Издавна бытует на
Руси А потом нам надоело сочинять такие стихи, и мы уже дальше просто брали из напечатанных в книгах. Было замечательное стихотворение, это подлинное, оно называется "Коновал". Боровка подкастрирует ладно да чисто, Еще: Сегодня и закат сияет ярко, Конечно, по Фрейду это грубая сексуальная символика. Сны этой доярки очень понятны и очень предосудительны. В общем, мы веселились как могли и как умели. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: И Крапива даже песни сочинял. Одну в своей жизни точно сочинил. А больше я не слышал от него. Приспустите на флагштоках Как я понимаю сейчас, это у нас был период Бродского. Это же от его "Пилигримов" все эти настроения. Эта песня к нам приходила даже не в самиздате, а вот так по цепочке, поэтому я не уверен, что здесь те самые слова, которые у него были... Потому что тогда самиздата как такового не было, он чуть позже пошел. - А кто еще писал песни? Зеликовский. Зеликовский написал штук 500, наверное, стихов, а я их быстренько под гитару и аля-улю. Там были и хорошие стихи, и хорошие песни. По тем временам во всяком случае. Там же свой жанр. Чайки запутались меж парусами, Кто-то когда-то рассказывал
сказки, А ночь, она крала тоску по любимым, Это все сказка. На берегу мы. Море, прости мне, что не ушел я. Мы все усталые были тогда... А! И вот еще одна песня... Чья же это? Убей меня, не помню. Это не наша песня, но мы ее любили. Тоже к 50-летию. Нынче праздник, стынут флаги на фасадах, А деревья так же по ветру качаются, Б.ХЕРСОНСКИЙ: Были еще люди, которые ни в какие студии не входили. Это были достаточно одаренные люди, известные всей Одессе. Таким человеком является Фима Ярошевский. Он тогда гремел как автор очень веселого фекального романа, романа пророческого, поскольку он был посвящен тому, что из всех унитазов города Одессы все, что туда, так сказать, лилось, полезло обратно, и тому, как на это реагируют одесситы. При этом одесситы были подлинными в чем характерность фекального романа. Он писал о совершенно конкретных людях, которых хорошо знал. Я запомнил, как отставник стучал кулаком по столу и говорил: "Я уверен, что меры принимаются и кал остановлен на подступах к городу». Был еще Петя Рей такой. (Вообще его фамилия Рейдман.) Петя является глубоко верующим человеком, мечтающим о монашестве. Он и поныне пишет стихи. Стихи сугубо религиозные, довольно мрачные, среди них есть и хорошие. А вот юношеские стихи Пети совершенно иные. Ну например: Коммунист Тимофеев вздыхал украдкой, Что в октябре ничего не растет. Вдруг видит чу! на стебле в кадке Улыбка Ленина цветет. Затем: Я волком бы выгрыз социализм И надежда наша!", Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: Веселых случаев было очень много. Вот в 67-м году мы с Зеликовским поехали в город Ялту. Он с девушкой и я с девушкой. И мы поставили целью на 50-летие советской власти в ночь 50 раз в сумме сделать и он, и я. И мы сделали. Вот такие мы были. Это замечательно, правда? А потом мы вышли после всего этого подвига во имя Октябрьской революции, мы вышли на набережную в Ялте и устроили огромную драку. А вообще я неправильно говорю. Наверное, нужно говорить иначе. Нужно сказать вот что: все-таки у нас были какие-то моральные законы, нравственные. Кодекс чести. Который мы несмотря ни на что выполняли. Грубо говоря, я мог попереть на двадцать, на тридцать, на пятьдесят человек, если они оскорбили меня. Если они оскорбили женщину, которая со мной идет, или еще что-то... Вот этот романтизм, оставшийся из конца 50-х годов, помноженный на цинизм конца 60-х... Но мы были романтиками еще оттуда. Мы были растеряны, я считаю, что мы были растеряны. Но какие-то вечные вещи мы защищали.
<...> Часть 7.
Б.ХЕРСОНСКИЙ: Алик Бейдерман был бессменным членом студии Михайлика. Затем он ушел в другие студии и не возвращался. Он ушел в партию, в атеизм. Он очень переживал: как он, коммунист, имеющий филологическое образование, не может работать по специальности. Это было для него причиной серьезных комплексов. Он работал прссовщиком, рабочим, потом с колоссальным трудом ему удалось устроиться заведовать кабинетом атеизма, потом Дом народного творчества... Вступление в партию ему тоже не помогло. То есть, если говорить о каких-то карьерных моментах, то они были самые скромные, можно сказать, убогие. Тот, кто имел специальность, вроде меня, по ней работал. А кто, например, был филологом, как Алик, тот работать попросту не мог. И, следовательно, люди уходили в рабочую сетку, пытались устроится при каких-то клубах, пытались писать сценарии для агитбригад... Меня тоже не миновало это. Я один раз в жизни согрешил. Я написал (за очень небольшую сумму) сценарий для агитбригады Канатного завода. Мне давали методички, чтобы я знал, как это делается, и были примерные сценарии. Оттуда помню частушку: Над стеною городскою Надо сказать, что когда я писал этот сценарий, я пытался это делать на грани пародии. Но все это воспринималось вполне серьезно. - Что пели эти частушки? Да конечно же пели! А как читали вот это стихотворение, которое у меня завершало сценарий! Когда, знаменами овеяны, Мне было чрезвычайно смешно, когда я все это писал... А.БЕЙДЕРМАН: Понимаете, литература это действительно моя жизнь. Без преувеличения. С детства, с юности я никакой другой, так сказать, жизненной стези кроме литературы я себе не мыслю. И смотрите, какая интересная штука получилась: мы были популярными молодыми поэтами в городе в те годы, а кто-то не был популярным молодым поэтом, но стал членом Союза писателей, профессиональным писателем. С самого начала, как я начал писать стихи, как я начал читать их на студии, а потом с эстрады, я совершенно точно знал, что это не пройдет, это не пропустят. В моих стихах на русском языке были такие вещи как Бог, Иисус и вообще библейская тематика. Это у меня было фирменное, я бы сказал, хотя очень нехорошо применительно к таким вещам так выражаться. Нам с самого начала полностью перекрыли весь кислород. Я хорошо помню отношение к нам писателей (я не буду называть их имена). Они меня хлопали по плечу и говорили: "Ты очень хорошо пишешь!", но никто никогда кроме Юры Михайлика палец о палец не ударил, чтобы нам помочь напечататься. Совершенно ясно было, что они не хотят связываться с таким сомнительным творчеством. Печататься профессионально я стал с 85-го года на идиш. То есть, можно сказать, что как русский поэт я... то есть, нету такого поэта. Но я все-таки сшил себе из литературных способностей какой-то кафтан и много лет подзарабатывал деньги тем, что писал всякие сценарии клубного характера. Вечера, праздники какие-то, агитбригады... Между прочим, я до сих пор люблю этот жанр агитбригада. Какую-то социальную критику он в себе нес. В 81-м году, когда родилась Маша и мне надо было побольше зарабатывать, я работал в ОНМЦ. И стал руководить агитбригадой в Ленпоселке в совхозе "Авангард". Это довольно далеко, но там мне платили 100 рублей, а по тем временам это для меня были очень серьезные деньги в дополнение к зарплате. Я туда ездил раз в неделю, писал сценарии и даже сам их ставил. В общем, я бичевал недостатки сельского хозяйства, может, это у меня получалось даже остроумно... Вот на что я был обречен. Я не хочу сильно жаловаться, да и немного у меня было характера в плане пробивания своих стихов. А самое главное, я никогда в те годы не мог помыслить о том, чтобы передать что-то за рубеж. Я понимал, чем это чревато. И я счастлив оттого, что я стал писать на идиш. Я реализовал свой комплекс. Это было бы ужасно, если бы в 40 лет я до сих пор не печатался, был бы непризнанным, что называется, талантом. Б.ХЕРСОНСКИЙ: И эта невозможность реализоваться, которая была у нас все время, она калечила, создавала какие-то переживания, и способствовала, как ни парадоксально, нездоровому раздуванию самооценок. Потому что, если тебя не пускают, значит ты чего-нибудь стоишь. А на самом деле это не так. Был в то время очень жесткий антисемитский контроль. Еврей (особенно с еврейской фамилией) это было не для печати. Я сейчас не буду называть имен, но один из наших коллег по студии в то время нуждался и искал работу. Была ставка в одной из одесских газет. Совершенно неожиданно, хотя мы просили устроить нашего друга там оказался человек, совершенно бесперспективный в литературном отношении. И когда мы спросили: "Как же так получилось?", был ответ: "Это же русский мальчик, нужно ему хотя бы дать шанс, ведь у того шансов нет». Это был рост в условиях, когда шансов нет. Конечно, работать было чрезвычайно трудно, и несколько человек все-таки полностью забросили все и даже близко уже к литературе не подходили. Ближе других к профессиональной литературе подвинулся все-таки Ким и, на мой взгляд, он был дальше всех от литературы, как таковой. Ю.ЛЫНЮК: С Херсонским было проще, у него была возможность реализовать себя через науку, через познание православия это дало импульс к дальнейшей его поэзии. А с другими было все значительно сложнее. А вот Шурка не реализовался. Он ушел в коллекционирование. Борьку Вайна в какой-то момент захлестнул альтруизм, помощь друзьям... Они бились внутри себя, не выплескивая это в каком-то творческом акте едином... Мы ведь тогда мальчишками пытались вырваться. Нас щелкнули по носу. Кто-то в силу своего характера вот как Юра Хащеватский, Димка Зеликовский, Сташкевич, полезли и все-таки забрались туда на ту или иную ступеньку. Они все-таки нашли там свое место. Где-то покусывая соседей, распихивая локтями, где-то льстя... Не то чтобы поступаясь, но через какие-то творческие отступления... В человеческом плане для меня неприятно было узнать, что Хащеватский снимал фильм о Брежневе, хотя, может быть, это было необходимо. Ю.ХАЩЕВАТСКИЙ: Как это выглядело? Да никак. Ну, например, тебе на работе могли сказать, что "вы аполитичны", и в связи с этим ты получал зарплату поменьше. Со мной работал очень хороший парень, Володя Ярошевич. Он ленинский стипендиат был. У меня было 13 изобретений, у него ноль. Я получал 95 рублей, а он 140. Это было как бы воспитание. Понимаешь, медленное спокойное привычное циничное воспитание. Нам объясняли: "Дурень, не лезь!" Эти разговоры были отовсюду, все говорили: "Ну что тебе, больше всех надо? Что ты, дурак, выступаешь?" И давай будем честными не все из нас это выдержали. Не все из нас остались такими чистыми. Я, например, себя честным и чистым не считаю. В принципе. Хотя я всегда и дрался с ними, и боролся, и ругался. Но мне кажется, скорее по бандитизму своему, чем по чему-нибудь другому. Вот Заславский, тот с ними боролся идеологически... Например. Ну, например, я ужасно любил бить за то, что кто-то кого-то называл "жидовской мордой". На работе меня не повысили, не добавили десяти рублей, потому что я ударил одного конструктора. Там у нас кто-то уезжал из евреев, а он сказал,что одним жидом меньше будет. И я ему дал в морду. Меня там честили изо всех сил, я там был самый главный враг во всем этом КБ. Но это ведь неосознанная борьба, борьба бандита, хулигана какого-то... Ю.МИХАЙЛИК: Ким Каневский много лет спустя приходил и предъявлял мне жестокие претензии. Он говорил, что я сломал им всем судьбы. Он говорил, что вы предлагали нам, так сказать, идеальную структуру взаимоотношений человека с литературой, и это для нас всех оказалось гибельно, потому что реальность нас всех поломала. Не знаю, насколько он прав. Не думаю, что те идеальные отношения с литературой, которые я проповедую, мешают человеку, если у него есть позвоночник. У большинства этих людей, к сожалению, не оказалось того хребта, который необходим для того, чтобы стать литератором. Кроме дарования нужен еще достаточно жесткий характер. Ночное бдение и дневное колочение лбом о стенку этого, конечно, они не могли. Ну, Бейдерман, например, стал литератором. Ничего он не стал. И та позиция, в которой он находится сегодня, позиция единственного в Одессе еврейского поэта, человека, пишущего на идиш, это, в общем, позиция искусственная, потому что он все равно русский поэт. Я даже не знаю, пишет он по-русски и переводит себя на идиш или пишет на идиш и переводит себя на русский. А.ГЛАНЦ: Херсонский когда-то по поводу того же Алика Бейдермана, когда он в партию вступил, прошелся. Он мне перечислил, открыв Библию, проклятия сынам Израиля, какие-то страшные проклятия. Допустим: ты женишься, а твоя жена будет спать с другим; ты вырастишь вола, а его мясо съест кто-то другой; и последнее, самое страшное ты пойдешь на базар наниматься в рабы, и не будет на тебя покупателя... То есть ситуация была настолько острой и болезненной... Бейдерман в 40 лет напечатался. А нам, конечно, надо было напечататься в 20. Вот я, между прочим, закончил сельхозинститут по специальности экономист. Там один доцент у нас был, он рассказывал, что бывает внутриутробное недоразвитие, бывает послеутробное. В случае с животными это выглядит так: если, допустим, теленок не может дотянуться до вымени, то у него внутриутробное недоразвитие, а если у него иксообразные ноги высокие, то это послеутробное он в первые недели жизни не получал нормально молока или витаминов. И то, и другое остается на всю жизнь. Недополучение питательных веществ в нужный момент уже невозможно компенсировать. Это страшные слова, страшные вещи. Так вот эти самые витамины, не полученные вовремя, почти в каждом одесском литераторе.
Часть 8.
Б.ВЛАДИМИРСКИЙ: Что еще вспомнить? Ну еще вечера у Олега Соколова. Я там был всего два раза в Строительном переулке. Это ведь один из главных центров в Одессе в то время... Домашние журфиксы и суаре у Олега Соколова! Олег был самый модный художник в городе. Самый модернист. Что вы... Он первый начал иллюстрировать "Мастера и Маргариту", но это было уже в 67-м. А то, о чем я говорю, относится к более раннему периоду к концу 50-х, к началу 60-х. Он собирал вечера, где читались и обсуждались стихи, где вывешивались картины. И это считалось самым злачным авангардистским местом в городе, понимаете, салон был. Туда ходила вся интеллигентная Одесса. Там были меценаты, врачи, все гости заезжие. Коржавин там бывал... Олега таскали в КГБ, давали предупреждения за это. Еще один человек, который был в эпицентре всего этого периода это Даня Шац. Даниил Маркович Шац. Он был одной из самых ярких фигур в городе. Он из мальчиков-шестидесятников номер один. И еще Саня Авербух. Вот два столпа. Я был знаком и дружил с его младшим братом. Но я был все-таки в стороне от этой компании, я был помладше. Главный "штурмундранг" был связан вот с этими именами: Шац, Соколов, Авербухи. И протежировала им и меценатствовала работавшая тогда в университете Берта Яковлевна Барская, жена Шайкевича. Ю.ЛЫНЮК: Все это дело расширялось. Скажем, через Сережу Александрова был выход на Бенимовича (поэт, который песню про Мясоедовскую написал)... Но то были ребята старше нас и вообще лихие. - В каком смысле? Ну, у них в свою очередь был выход на Олега Соколова. Значит, хулиганствующее искусство: по видом великих исканий можно было пить водку... Соколов человек неоднозначный очень. В принципе большая умница, но в душе он был просто хулиган. До смерти своей. Очень хулиганистый был человек. И очень хорошо, душевно относился к нам, к молодежи. Ему сильно Шурка полюбился, он даже ему портрет подарил какого-то бандюги. Я бывал у Соколова дома пару раз, но мне там было не очень интересно. И потом, я уже перед самым отъездом в Казань с ним познакомился, и никаких былизких отношений не восстановилось. А.БЕЙДЕРМАН: Я страшно благодарен Сереже Александрову, потому что, собственно говоря, он меня и приобщил к литературе, а к культуре меня приобщал покойный сейчас Олег Аркадьевич Соколов. Когда я впервые попал к нему в дом... - А как вы туда попали? Ну, это было настолько давно, лет 25, пожалуй, тому назад, что я уже и не помню. попасть туда было, с одной стороны, не очень легко, а с другой стороны, совершенно просто, потому что не спрашивали документов и вообще ничего не спрашивали, нужно было только быть знакомым с кем-нибудь, кто тебя туда приведет. Это были среды у Соколова, они происходили на Ольшевском спуске, там была квартира богемного совершенно вида. Я помню, когда я впервые туда пришел, меня сразу поразила фреска на стене: фиолетовая в черных тонах, там был Сталин и все вот эти вот... Собрания эти были под угрозой, все время говорилось, что их могут закрыть. Нами постоянно владело подозрение, что среди нас есть стукач. Я не скажу, что мы подозревали каждого и всякого между собой, но об одном-двух людях из нашей компании темные и смутные слухи ходили. Не буду говорить, о ком именно, это совершенно не важно сейчас. Мне кажется, что они даже не подтвердились впоследствии... Но среды закрыли в конце концов. Я не знаю, как это происходило, могу себе представить только на основании своего личного опыта общения с Конторой. - То есть пришел Соколов и сказал: "Хватит, ребята!"? Не сам он сказал. Просто стало известно, что к нему больше нельзя приходить по средам. А.ЮЖНЫЙ: Александров познакомил меня с Олегом Соколовым, мы там часто бывали по средам. - Кто туда ходил кроме вас? Сейчас я попытаюсь припомнить. Там был Миша Малеев, человек который меня потряс тогда: он намного старше был, необыкновенно эрудированный, очень интересно говорил, рассказывал, читал... стихи он тогда не писал, по-моему. Потом его друг, с которым они расплевались очень сильно, когда разогнали компанию Соколова гебешники, Жора Корнев... - Как разогнали компанию? Там у Олега Соколова собирались ребята, кажется, связанные с комсомольской организацией порта, они там готовили какие-то выступления или что... Один из лучших друзей Олега Соколова (я его сейчас не припоминаю, хотя Олег мне его описывал и рассказывал всю эту историю) оказался сотрудником госбезопасности. В один прекрасный день он зашел к Олегу в музей и пригласил его в кафе "Спартак" выпить чашку кофе. Они пошли, и после этого он показал Олегу свое удостоверение и сказал: " Олег, все, эти среды закрываются, чтобы этого больше не было..». Там все прикрылось, Малеева исключили из института, он, видимо, очень много говорил в госбезопасности, потому что очень большие неприятности были у Корнева и еще у ребят. Их сильно тягали, и Олега тягали Соколова... Ю.МИХАЙЛИК: Олег Соколов он был, так сказать, свидетельством меры глупости. На самом деле это был очень слабенький художник, поражавший нас всех не тем, что он писал, а тем, что это было очень непонятно и имело очень красивое название. Какое-нибудь элементарное сочетание ромбов, кубов и т.д. называлось "Пейзаж неведомой звезды"... Александр Грин, писатель, которого я очень не люблю сейчас, был тогда наиболее ярким воплощением нашего состояния. Понимаете, это было пиршество бедных. Пир темных, с жаром обсуждающих элементарные посещающие их мысли, вокруг элементарных мыслей, относительно которых человечество давным-давно определилось, шли такие кухонные споры, дискуссии и баталии! Уже просто потому, что то, что Олег Соколов делал, было непохоже на официальное искусство, уже поэтому мы были за это всей душой. Он делал великое дело на самом деле. Потом те, кто верещал вокруг Олега Соколова, мало-помалу начинали любить других художников, выстраивать шкалу ценностей, в которой места Олегу Соколову не было. Но без него это движение не началось бы вовсе или началось бы значительно позже. Он, конечно, святой человек. Сумасшедший, пьяница, претенциозный ужасно, страшно глупый. Но истинно преданный своему делу. <…>
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
||