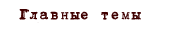
 |
|
Лекция-интервью о неформалахЧасть III. 1991 г.
ИРЕАН Как я уже рассказывал, к концу 90-го - началу 91-го года начала образовываться некая сеть анархо-коммунистических активистов, куда входили я, люди из беспартшколы и такие ребята из других тусовок, как Андрей Котенко... Мы с ними стусовались, обсудили ситуацию и приняли решение создавать анархо-коммунистическую организацию. 5 марта 91-го года в беспартшколе мы провели презентацию новой анархистской организации, которая получила название ИРЕАН - Инициатива революционных анархистов. (Мы ещё смеялись по поводу даты проведения презентации: ведь 5 марта - день смерти Сталина.) Так впервые после 20-х годов в Советском Союзе возникла анархо-комунистическая организация традиционного толка. Презентация прошла довольно бурно. Мы зачитали декларацию, которая называлась “Чего мы хотим” (потом она публиковалась в каждой номере газеты “Чёрная звезда”, которую мы стали издавать в начале 91-го года), после чего начались достаточно оживлённые дискуссии. Между прочим, по-моему, именно там я опять встретился с Грязновым и Элиовичем, которые приняли активное участие в этой дискуссии и выразили недоумение по поводу того, как может функционировать такая штука, как анархо-коммунизм. Пришлось им объяснять. Потом было сказано: кто хочет, тот пусть подписывается под декларацией и вступает. Вступило несколько человек, например, поэт Владимир Платоненко. И с 5 марта 91-го года ИРЕАН начал отсчёт своей деятельности. Где мы собирались, я уже сказал, да? Вот в этой самой школе, где размещалось М-БИО. Чем ИНЕАН занималась? Да чем угодно. Дело в том, что тогда у нас ещё не было жёсткой анархо-синдикалистской ориентации, хотя уже в декларации мы не отрицали того, что анархо-синдикализм станет одним из направлений нашей деятельности. У нас была идея, что самоорганизация, самоуправление - вещь передовая и прогрессивная во всех формах, где бы эти формы ни возникали: идёт ли речь о рабочем движении и синдикализме, об экологическом движении, о территориальных комитетах самоуправления или общих собраниях на территориях, вообще о каких-то самоорганизованных инициативах, коммунах, да о чём угодно. То есть любые формы самоорганизации и самоуправления следует приветствовать и развивать, потому что из них и может вырасти та сила, которая в состоянии совершить социальную революцию и стать основой структур анархо-коммунистического общества. Естественно, что прежде всего мы занимались агитацией и пропагандой (так сказать, агитпропом). В качестве очень модного тогда в анархической среде метода агитации активно использовалась такая вещь, как оранжевые акции. Не знаю, известно ли тебе, что такое - оранжевые акции. Сейчас это - вещь забытая... П.: Нет, естественно, я помню... Д.: Знаешь? Помнишь ещё? П.: Я помню “Бюллетень оранжевых бригад”, помню “Единый Блок Левых Организаций” и прочие пародийно-политические акции... Д.: Ну, это уже чуточку позже. П.: ...И знаю, что это тогда было совсем не то, что сейчас... Д.: Конечно. Это - не то, что теперешние оранжевые, не то, что Юлия Тимошенко на Украине. Совсем другое. Но я, всё-таки, вкратце об этом напомню, потому что мало кто сейчас об этом вспомнит. П.: Я, кстати, помню первую такую публичную акцию (как раз, по-моему, 90-го года), когда революционный художник Анатолий Осмоловский и его товарищи выложили своими телами на брусчатке перед мавзолеем нехорошее слово из трёх букв. Д.: А, по-моему, это уже позже было… П.: Но не позже 91-го. Д.: Первая из таких оранжевых акций была сделана как раз нами - ИРЕАНом. Сейчас я про неё расскажу. Когда у нас в 91-м цены повысили? С 1 апреля? П.: Да (или, может быть, со 2-го). Д.: Да, точно! Ну, конечно. Это была акция, приуроченная к повышению цен. 1 апреля, в День дурака (которым оказался весь наш бедный народ), мы провели акцию под названием “Сбор подписей под петицией за коронацию и канонизацию Бориса Николаевича Ельцина, то есть объявление его царём и святым Всея Руси”. С этой целью из журнала был вырезан большой красивый цветной портрет Ельцина, который в виде нимба был украшен всяческой мишурой - пачками из-под американских сигарет, цветной фольгой, короче, какой-то ерундой, которая должна была символизировать фальшивый блеск и суету сует. В качестве реквизита мы использовали также большой картонный гроб, на котором было написано: “Советский народ, павший в борьбе Горбачёва и Ельцина”. С ним мы все встали у метро “905-го года” и стали собирать подписи под петицией. Целью акции было показать, что власти (номенклатурщики всех мастей) делят власть наверху, что каждая из клик борется только за то, кто из них будет обирать народ, что всё это - игры (все эти «коммунисты», «демократы» и прочие). А пока это происходит, растут цены, ухудшаются социально-экономическое положение, материальное положение людей, продовольственное снабжение, и всё так или иначе идёт к катастрофе, может быть, даже к массовому голоду. Цель была в том, чтобы привлечь внимание людей к создавшему положению. П.: А я думаю, что тема “коронации” могли быть связана и с предстоявшими выборами президента РСФСР, на которых ожидалась победа Ельцина. Д.: Ты знаешь, мы, как анархисты, не придавали выборам значения. Нам не нравились, конечно, концентрация власти и почти религиозное поклонение Ельцину со стороны его приверженцев. Но и Горбачев был, с нашей точки зрения, ничуть не лучше. Просто мы хотели показать, что Ельцин – это не альтернатива. ...Люди к нам подходили, читали петицию. Кто-то рьяно возмущался: “Чтоб я вам такое подписал?! Да этого Ельцина!.. Да он же - сукин сын!” Мы говорим: “Вы внимательно прочли?” - “Да. А что?” - “А день сегодня какой?” - “А, ну да! Ха-ха-ха!” И подписывали. Подписи довольно живо собирались, когда подоспели доблестные охранники правопорядка и нас оттуда вытурили. (Как мы узнали, в преддверии повышения цен митинги и акции протеста в Москве были запрещены.) Весь реквизит, включая гроб, мы понесли в метро. И повезли, не обращая внимания на то, что нас, неопытных, зелёных (в данном случае, не в эко-политическом смысле), самым вульгарным образом “пасут”. В общем, нас отследили, и когда мы доехали до Таганки, где была квартира подруги Димы Костенко (там мы должны были оставить реквизит), нас остановили и повязали. Держали нас недолго, но это были для меня первый “винт” и первый суд. Да, по собственной наивности мы на следующий день пришли в суд, хотя делать этого, конечно, не стоило. И впредь анархисты такой глупости обычно не повторяли. П.: Объясни, почему это было ошибкой. Д.: По нескольким причина сразу. Во-первых, анархисты в принципе не признают авторитета государства и права государства судить себя. Они если и признают какой-то суд, то только общественный. Во-вторых, по чисто практической причине: всё равно всех участников несанкционированных митингов присуждают к “административке” - что тогда, что теперь. И сейчас происходит всё совершенно то же самое, что в 91-м году - с точностью до... Точно так же людей хватают, забирают в полицейское управление, доставляют в суд. Там точно так же, абсолютно не слушая их объяснений (что все свидетели – от полиции, то есть не имеют права свидетельствовать, что других свидетелей нет и что всё было совершенно не так, как говорят полицейские и их свидетели), судья впаривает подсудимым заранее согласованный с полицией приговор. ...Мне дали небольшой штраф (порядка двухсот-трёхсот рублей), который, конечно, я бы добровольно выплачивать не стал. Но поскольку я работал в государственном учреждении, то меня никто и не спрашивал: его просто стали вычитать из зарплаты. К счастью, деньги быстро обесценивались. Следующая оранжевая акция ИРЕАН была организована летом 91-го года. Около университета нами был проведен карнавальный митинг под лозунгом: “Даёшь приватизацию неба!” Идея была какая? Тогда либеральные круги достаточно активно стали требовать приватизации всего и вся и, прежде всего, приватизации земли. Мы сказали: если приватизировать землю, то почему бы не приватизировать небо? Давайте приватизируем небо и каждому умершему от голода или других последствий курса на шоковую приватизацию предоставим по маленькому участку неба, на котором он сможет совершенно спокойно обретаться. На сей раз всё прошло спокойно: была зачитана какая-то декларация, декреты о приватизации неба и прочие такие шутовские вещи, которые зачитывались от имени, по-моему, Комитета общественного спасения или чего-то подобного. После августа 91-го года мы по этому поводу шутили, что предвосхитили ГКЧП. Наверное, просто что-то от чрезвычайщины в воздухе уже витало, и это что-то мы уловили и попытались неким образом артикулировать. П.: Так не надо было и улавливать: ведь перевороты в Прибалтике в январе 91-го совершались от имени комитетов общественного спасения... Д.: Кстати, да. Традиция чрезвычайщины уже была. Так что всё логично.
ВЫСШАЯ (ОНА ЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ) СТАДИЯ ЗЕЛЁНОГО ДВИЖЕНИЯ Следующий этап зелёного движения - май 91-го, лагерь протеста против Горьковской атомной станции под Нижним Новгородом, в котором я тоже участвовал. В этом лагере мы планировали собрать и следующий съезд Партии зелёных. На съезд приехало не так много народу, потому как, вероятно, акция лагеря была уж слишком радикальной для многих чистых природоохранников. Я там был делегатом от Московской организации. К этому времени Сергей Фомичёв уже окончательно перебрался из Самары в Нижний Новгород и пытался организовать Партию зелёных Нижегородского края. П.: Почему “края”? Д.: Перевод слова “регион” на русский язык. Ну и немножко местного автономизма. Мы приняли резолюцию о создании Лиги зелёных партий и декларацию, которая была подготовлена в Балаково. Мы разослали различным местным зелёным партиям, которые не успели или не смогли по тем или иным причинам до нас добраться, что-то вроде письма с предложением присоединиться к создаваемой лиге. Но вскоре после этого фактически произошёл раскол Зелёной партии и вообще зелёного движения, потому что через пару недель после этого (по-моему, в Ленинграде) был созван съезд по созданию Российской партии зелёных. Надо сказать, что мы достаточно плохо относились к идее создания Российской партии зелёных – по нескольким причинам сразу. Причина первая состояла в том, что мы, в общем-то, были против распада страна на составляющие республики. Почему? Не потому, что нам так была дорога империя. На империю мы всегда плевали – и тогда, и потом. Дело в том, что мы не видели ничего хорошего в том, что на месте одного многонационального государства появятся несколько национальных государств, основанных на совершенно той же централистской логике, на совершенно той же системе индустриализма, разрушения окружающей среды и господства над человеком и природой и с таким же точно подавлением своих собственных меньшинств, которые будут существовать в этих национальных государствах. Поэтому мы считали, что выход состоит не в распаде одной империи на пятнадцать национальных государств, а в создании именно федерации (конфедерации) самоуправляющихся территориальных единиц – на уровне города, региона, группы городов (как кому удобно). Причём это нельзя предписать сверху; это должно вырастать снизу естественным образом – как это люди сами захотят организовать. Кроме того, идея создания республиканских партий противоречила нашей идее о том, что экология не знает границ. Второй момент... Дело в том, что главными инициаторами создания Российской партии зелёных были как раз те течения внутри зелёного движения, с которыми мы, экосоциалисты, вели борьбу. Это были умеренные, так называемые реальные политики, то есть те, для кого экология была просто способом сделать политическую карьеру и, может быть, издать какие-то экологические законы. Главной опорой этого крыла к тому моменту стала Ленинградская партия зелёных, которая (в отличие от нас, контактировавших с немецкими зелёными) была связана с более умеренными зелёными из таких стран, как Швеция и Финляндия, и ориентировалась именно на них. С другой стороны, к новой партии примкнули крайне правые зелёные из Челябинска - с очень сильными экофашистскими тенденциями. (Был там такой г-н Княгиничев.) То есть её создавали, с одной стороны, люди типа Ивана Блокова и, с другой, типа Княгиничева. Мы думали: что может вырасти из подобного союза? Да в любом случае ничего хорошего. И уж, во всяком случае, не то, что мы бы хотели создать и в чём мы бы хотели участвовать. Третья причина - чисто идеологическая. Было совершенно понятно, что эта структура явно не является экосоциалистической по своим идейным принципам и не может стать таковой. Не удивительно, что они отказались принять предложенный нами принцип партии-федерации, то есть федерации местных партий и фракций. Ну а раз так, то это, повторю, - совершенно не то, что мы хотим создать, и мы в этом никакого участия принимать не будем. И получилось так, что партийная часть зелёного движения фактически распалась, потому что какие-то из местных партий вступили к нам, какое-то пошли туда, какие-то из них на всякий случай вступили одновременно и туда, и сюда. В Московской организации Партии зелёных в связи с этом произошёл просто раскол: я был за то, чтобы вступить к Лигу, а Шубин - за то, чтобы вступить в Российскую партию зелёных. (На этой почве у меня с ним и произошло политическое столкновение.) Поскольку я всё больше погружался в анархистскую проблематику, и пребывание в партийных рядах вообще становилось для меня всё более и более сомнительным, то я сказал: “Бог с ней - с вашей Московской организацией Партии зелёных. Вступайте, куда хотите. А я буду создавать что-то своё”. При участии некоторых членов ИНЕАН я создал маленькую группу, которая назвала себя Инициативной группой Лиги зелёных партий Москвы. Она просуществовала до 92-го года и успела ещё поучаствовать в следующем съезде Лиги зелёных партий. В каком-то смысле, это было что-то вроде экологического отдела ИРЕАН. Чтобы закончить с зелёными делами, я расскажу и об этом съезде, который стал для меня последним зеленым съездом. Он проходил в Липецке, вскоре после очередного лагеря протеста против строительства в этом городе завода по переработке рапса, который строила фирма “Репсоль”. (Это был достаточно грязный в экологическом смысле проект. Местная общественность очень сильно против него выступала, и там был устроен межгородской лагерь протеста.) На волне этих протестов местные экологи и выразили готовность принять съезд Лиги зелёных партий, в котором я принимал участие в качестве делегата от Москвы. Мне было поручено выступить с докладом об экологической экономике на экосоциалистической основе, что я и сделал. Меня выбрали членом высшего органа -Совета региональных координаторов. Но съезд этот оказался последним, потому что было понятно, что реально движения уже нет. Съезд показал, что на него собрались очень разные люди, которые хотят совершенно разных вещей. (Там были, например, даже делегаты из украинской Партии зелёных, - кажется, от какой-то местной или региональной организации.) Было понятно, что движение уже агонизирует. Экологическая проблематика в сознании людей отступала на задний план, их интересовали уже более ощутимые и насущные социально-экономические проблемы. Общественное мнение уже не так благоприятно реагировало на всякие вопросы экологии. Да и в прессе началась кампания против зелёных: из-за того, что слишком много фабрик позакрывали, продуктов не хватает; из-за того, что экологисты все химические заводы закрыли, теперь мыла не хватает... Но не то чтобы именно это так уж сильно влияло на общественное сознание. Влияло, по-моему, другое: реальные экономические трудности, связанные с шоковой терапией, с освобождением и последующим скачком цен. То есть, конечно, людям было уже не до экологии. Не то чтобы они считали, что экологической угрозы в принципе нет, но она не воспринималась уже так актуально. (“Сейчас у меня другая проблема: кушать чего-то надо.”) После этого какое-то моё реальное участие в экологическом движении, можно сказать, прекратилось. П.: Ты ничего не рассказал об обстоятельствах проведения последних “зелёных” съездов. Д.: Балаковский съезд проходил в палаточном лагере. Съезд в Нижнем Новгороде в мае 91-го тоже проходил в лагере протеста против Горьковской атомной станции. (Всё в палатках.)
АНАРХО-ПАЛОМНИЧЕСТВА В начале 91-го года собрался очередной конгресс манделистского IV интернационала, и организаторы постарались пригласить в качестве наблюдателей активистов левой оппозиции со всей Восточной Европы: там были люди из Восточной Германии, из левого крыла польской "Солидарности", Вотава из чехословацкой "Левой альтернативы", - иными словами, бывшие левые диссиденты, которые начинали ещё как борцы против сталинистских режимов. Из Советского Союза позвали меня (от экосоциалистов) и представителей антисталинистских марксистов в КПСС Александра Бузгалина и Андрея Колганова. Конгресс проходил на берегу Адриатики, в местечке недалеко от города Римини. Как оказалось, это была самая холодная зима в Италии за много десятилетий, и всё было засыпано снегом. Убежав как-то с заседаний в Равенну, я с восторгом бродил по последней столице Римской империи, через сугробы пробираясь к мавзолею готского короля Теодориха и буквально впитывая в себя историю. Потом мы бродили с очаровательной Катрин Самарии (она не только один из лидеров французской секции, но и известный ученый) по заснеженному берегу моря и дискутировали о социализме, рынке и перспективах левого движения. Она (естественно, не только от своего имени) убеждала меня вступить в IV интернационал в качестве индивидуального члена. Вообще-то, такое у них не практикуется, в организации состоят страновые секции. Но для отдельных известных левых активистов это допускалось. Такими членами были например, видный чешский диссидент Петар Уль и лидер левого крыла польской "Солидарности" Юзеф Пиниор. Так что я оказался бы в хорошей компании. Но я, конечно же отказался. Тем более, как выяснилось, троцкисты отнюдь не против рынка на переходный период к социализму. Они верны в этом смысле "Переходной программе" Троцкого и предлагали что-то вроде НЭПа. Для меня, анархо-коммуниста, такие вещи были неприемлемы. Позднее, где-то в начале лета 91-го года, один из упоминавшихся мной англичан пригласил меня поехать в Англию подискутировать с их вождями. Почему бы и нет? Тем более, что поездку удалось использовать для установления контактов с британскими анархистами. Там у меня состоялся, в частности, долгий разговор с другой живой тогда ещё легендой европейских левых Тони Клиффом, но, думаю, он разочаровал моего собеседника. Как он ни прельщал меня идейными красотами марксизма, для меня это был уже давно пройденный этап. Я объяснил ему, что, с моей точки зрения, теоретики анархизма были отнюдь не менее блестящими, чем Маркс и Роза Люксембург, и что в анархо-коммунистических аргументах Кропоткина и предлагаемом им облике будущего общества куда меньше противоречий и нестыковок. При этом не должно создаваться иллюзий, что я взаимодействовал с ними, уже состоя в ИРЕАН. Подчёркиваю: после марта 91-го ни на какой троцкистский конгресс я бы уже не поехал. Подошёл август 91-го. По московскому неформалитету пробежал шумок: все, кто хочет, собирайтесь в Польшу. Что было в Польше? Туда в это время приезжал папа Иоанн Павел II. Приезжал он с каким-то очередным пастырским визитом. П.: Это называлось “VI международный день молодёжи”. Д.: Вот. Собиралась молодёжь со всей Восточной Европы, которая должна была пешком, через всю Польшу, отправиться в Ченстохову в качестве паломников на встречу с папой. Естественно, для большей части наших советских неформалов, которые ну не были католиками, это был просто хороший повод а) потусоваться; б) в Польше побывать. Ну а для нас, ИРЕАНовцев, это была ещё и возможность завязать контакты с польскими анархистами. Почему бы нет? Короче, мы тоже собрались и отправились в Польшу. Мы – это были я и Дима Костенко. Нас довезли до Варшавы, а дальше надо было слезать и пешком топать в Ченстохову. Мы спросили себя: “Очень ли мы хотим идти пешком через всю Польшу вместе с богомольцами?” Посовещались, и поняли, что не хотим. Короче, в Варшаве мы соскочили с поезда и поехали в совершенно другую сторону - в Гданьск, где установили замечательные контакты с польскими анархистами, которые издавали журнал “Мать порядка”, выходящий чуть ли не до сих пор. (В слове “мать” - “А” в круге.) Причём название его писалось по-русски: “МАТЬ ПАРЯДКА”, но через “а”. П.: Да, у поляков есть традиция воспроизводить русские слова фонетически, то есть так, как они звучат в оригинале. Д.: Да, да. Видимо, поэтому. А, может быть, ещё и потому, что буква “А” ассоциировалась с анархизмом… Так что в Гданьске мы прекрасно потусовались, обменялись с польскими товарищами мнениями обо всём на свете, попили пива… Короче, хорошо провели время. П.: Прости пожалуйста: в Гданьск вы целенаправленно поехали на встречу с кем-то конкретно, или это произошло совершенно спонтанно, и с тамошними анархистами вы познакомились уже на месте? Д.: Нет, конечно, не спонтанно… Ну, как? Мы знали, что в принципе есть такие люди (по именам), и знали, где их примерно искать (собираются они там-то, клуб у них - там-то). Приезжаем, приходим туда и находим людей, - так это обычно в те времена и делалось. П.: Прости, а это не вы в эти дни на символе Варшавы - памятнике Сирене... Д.: ...Нарисовали букву “А”? П.: ...нарисовали этот анархистский символ - букву “А” в круге? Д.: Не мы. Когда мы туда приехали, она уже была нарисована. Это сделали люди из тогдашней анархо-коммунистической группы Варшавы, которые издавали газету “Синдикалиста” и с которыми мы тоже тогда познакомились, кажется, уже по дороге из Гданьска. Эта группа вскоре распалась, но тогда был как раз пик её активности. Надо сказать, что польский анархизм стал формироваться ещё в подполье, при военном положении, во времена режима Ярузельского. Тогда они себя называли МА – “Мендзымястовка анархистычна” (в примерном переводе на русский язык - Межгородское объединение анархистов). А около 90-го года они реорганизовались на более прочной, что ли, основе и стали называться “Фэдэрацйа анархистычна”, ФА. Причем самые левые (как раз варшавские анархо-коммунисты) в ФА не вошли и сказали: “А мы сохраним название МА”. Так что мы познакомились со всем польским анархо-спектром: завязали контакты с гданьскими анархистами, которые шли в первых рядах Федерации и плюралистическая позиция которых нам тогда чем-то напоминала Рауша, и с “Мендзымястовкой” в Варшаве. Связались и с варшавской группой ФА, которая тогда симпатизировала ситуационистам. П.: Это уже после Гданьска? Д.: Да, на обратном пути. Я до сих пор помню, как мы из Гданьска ехали в совершенно переполненной, забитой до предела электричке, где мест не было вообще никаких. На нормальный спальный вагон денег у нас, конечно, не было, поэтому ночевали мы в вагоне - в спальнике на полу (люди через тебя переступают)… То есть ощущение было совершенно ирреальное. С другой стороны - в первый раз так, всё безумно интересно: совершено особая жизнь, особая атмосфера, всё иначе... Думаешь: “Чёрт с ним”, и на все неудобства плюёшь. На поезде мы добрались сначала до Варшавы, покрутились там, познакомились с тамошними людьми, потом поездом доехали куда-то почти до Честоховы и там быстренько присоединились к тем, кто дошёл. Любопытное воспоминание... Я тогда очень любил таскать палестинку (палестинский платок), который был ещё почти неизвестен среди левых в Советском Союзе. (Я его приволок в 90-м году из Германии.) Мы его в шутку называли ППП - “палестинский пуховый платок”. П.: Мне кажется, что его в те годы носил также Костенко... Д.: Это потом, чуточку позже. То, что я его завёл первым, это точно - хотя бы уже просто потому, что я первым из тусовки побывал в Германии. Это у меня содрали моду на него, и она потом быстро распространилась. Платок стал своеобразным опознавательным знаком левака. Может, даже с моей лёгкой руки. Я ничего не утверждаю на сто процентов, но и не исключаю такой возможности.
АВГУСТ... ...Из Ченстоховы мы возвращаемся в Москву поздно вечером 18 августа. Утром 19-го меня будит телефонный звонок от Костенко: “Ты радио слушаешь?” Я говорю: “Нет, я сплю. А чего, вообще?..”. “Как это? - говорит. - Переворот”. Я включаю приёмник и получаю по полной всю ту информацию, которая у нас тогда была по радио. Потом слушаю ту информацию, которая даётся по западным станциям. Получаю некоторое представление о происходящем и начинаю, что называется, чесать репу… Первая ассоциация - очень нехорошая: Чили, 73-й год. Надо сказать, что тогда многие левые испытывали своеобразный чилийский синдром, и эта параллель воспринималась как нечто гораздо более реальное, чем оно, возможно, было на самом деле. Так что первая реакция была такая: танки на улицах, переворот, 73-й год, сейчас всех будут давить и сажать. Созваниваюсь с товарищами по движению и бегу в центр города. В центре собирается КАСовская тусовка - КАС, беспартшкола, все вместе. Собрались мы... Сейчас ты мне скажешь, как называется эта улица: параллельно Тверской (тогдашней улице Горького), но со стороны не Большого, а ближе туда, к Библиотеке Ленина. Точно параллельная улица. П.: А! Улица Герцена тогдашняя. Д.: Улица Герцена тогдашняя. Вот там была такая блинная – не блинная, в общем, какая-то такая кафушка. (Это помещение, по-моему, есть и сейчас, но блинов там давно никаких нет.) Вот там мы, как я помню, сели и стали думать, что происходит и что делать. Надо сказать, что то, что я увидел, выглядело очень и очень странно и на переворот похоже не было. Я историк, и то, как в истории совершались перевороты, приблизительно знаю. А тут я видел такие сцены... Центр города, Тверская (Горького). Праздник непослушания: машин нет вообще, и люди, пользуясь тем, что их никто не контролирует (полиция куда-то с улиц исчезла), радостно переходят её, где хотят. Где-то там стоят танки. Народ к этим танкам подходит и спрашивает: “Вы чего, по нам стрелять будете?” В ответ им говорят: “Чем стрелять? Нам стрелять-то нечем: нам патроны боевые не выдали...” Ну не так перевороты делаются! Не знаю, что делать. Думаю: улицу Горького, что ли, перегородить и баррикаду построить? Смотрю, народ чего-то не рвётся баррикаду строить. Народ чего-то начинает тянуться к Белому дому. Тут я подумал: “А мне туда надо? Что мне делать у Белого дома? Защищать Ельцина и компанию? Сам же вроде всегда всем говорил, что это - такая же точно номенклатурная тусовка, что и эти”. Ну и что делать в такой ситуации? Вообще никак не реагировать? Тоже вроде неправильно. Потому что если ГКЧП реально победит, то может и впрямь установить диктатуру: запретит забастовки, запретит создание любых нормальных организаций. В декрете они уже на это намекнули… О каком тогда самоуправлении мы будем говорить? Они - альтернатива? Какая они к чёрту альтернатива в социально-экономическом смысле?! Они - такие же сторонники приватизации. Разве не входит туда тот же Павлов - один из авторов того самого апрельского повышения цен? И разве не провозглашают они, что рынок стране крайне необходим - точно так же, как и их оппоненты? Хорошо, а если победит Ельцин, что тогда будет? Сильно лучше будет? Тоже не будет лучше. Потому что тогда уж точно снимется вообще всякая преграда на пути к шоковой терапии. (Правда, вероятно, что этой преграды и так не будет.) Во-вторых, что ещё хуже, эта шоковая терапия получит в глазах людей легитимацию, потому что она будет осуществлена под шумок народной победы и той властью, которой народ будет доверять как предотвратившей диктатуру. Хорошо ли это? Что можно сделать в этой ситуации? Какую позицию занять и как донести её до людей? Мы, ИРЕАН, быстренько собрались и приняли следующее решение: нужно сделать листовки, в которых будет описана наша позиция по этому вопросу - что идёт борьба за власть между двумя кликами, каждая из которых хуже; чётко и ясно объяснить, что принесёт с собой победа как одной, так и другой стороны; объяснить, почему и тот, и другой вариант для нас - обычных людей труда - совершенно неприемлем, и призвать в качестве альтернативы не поддерживать ни ту, ни другую сторону, но воспользоваться ситуацией. Мы призвали людей объявить всеобщую стачку, захватить предприятия в свои руки и послать всех этих конкурентов-политиков к чёртовой матери, установив свой контроль над общественной жизнью в стране. Такова была наша идея. Интересно, что такую же позицию, как и мы, в Москве занимала только одна левая организация - совсем маленькая троцкистская группа (состоящая не то их двух, не то из трёх человек), которую возглавлял Алексей Гусев. А вот делали ли они свою листовку, я не помню. Мы, естественно, не были утопистами и прекрасно понимали, что шансы на то, что люди нас услышат, достаточно малы. Тем более, что у нас не было мощных печатных возможностей. (У нас был какой-то жалкий ротатор, на котором мы много не могли напечатать) П.: Где он у вас находился? Д.: Сначала у кого-то на квартире, потом, втихаря, в каком-то клубе … Так что было понятно, что больше нескольких сот экземпляров мы явно не сделаем. Тем не менее, было очень важно довести нашу позицию до максимального количества людей. В том числе и потому, что нам казалось достаточно важным, чтобы люди (пусть даже они сейчас нас не поймут) запомнили, что была такая организация, были такие вот анархисты, которые предупреждали их, чем это всё кончится. Когда то, о чем мы говорили им, наступит (независимо от того, кто сейчас победит), люди вспомнят, что их предупреждали о том, к чему приведёт победа той или иной стороны. И тогда люди заинтересуют теми, кто говорил им правду. П.: Ну и как: вспомнили, заинтересовались? Д.: Отчасти, да. Осенью 91-го и позже, в 92-м наша агитация имела определенный успех. Но в целом с обществом произошло другое: вскоре после начала шоковой терапии общество просто рассыпалось на атомы. Тут уж вспоминать стало некому… Но хотя бы совесть наша осталась чиста, а это тоже много что значит! ...Короче, мы пошли расклеивать эти листовки. Клеили мы их всюду - и в центре города, и на территории, которую контролировал ГКЧП, и около Белого дома, и около метро “905-го года” (где ходили сторонники и той, и другой власти). Листовки срывали, но мы клеили опять. Вот этим мы все эти дни и занимались. Правда, некоторые из наших людей время от времени крутились и там, и там... То есть не с ГКЧП (тот никого и не собирал), а крутились около Белого дома, смотрели, что там происходит, П.: И смогли избежать соблазна постоять среди своих братьев на анархистской баррикаде № 6? Д.: Да, смогли… Вот тогда наши позиции с КАС разошлись окончательно и бесповоротно. ...Наши активисты пытались вести агитацию, пытались, если получиться, радикализировать развитие событий. П.: Радикализировать в каком направлении? Д.: Был, допустим, такой эпизод: 21-го, когда всё кончилось, по Москве прошла демонстрация, и на Лубянке её участники стали скидывать памятник. П.: Это было уже вечером 22-го. Д.: Может быть, может быть… Меня там не было… Но я знаю, что когда сбрасывали Железного Феликса, раздавались голоса: а давайте Лубянку штурмом возьмём. Может, оно было бы и неплохо? Может, тогда у нас бы получился новый Будапешт 56-го года? П.: Ты хочешь сказать, что эти голоса, которые до сих пор приписывались гэбэшным провокаторам, принадлежали вам? Д.: Что значит “нам”? Первое: я этого не кричал; меня там вообще не было. Второе: наша организация не принимала решения это кричать. А кто это делал, я не скажу. Будем считать, забыл, кто конкретно… П.: А с какой целью радикализировать - чтобы на волне беспорядков попытаться осуществить планы, прописанные в последнем пункте вашей листовке? Д.: Это лучше было бы спросить у тех людей, которые это кричали. Только они уже давно не в анархистском движении… Но никаких оснований подозревать их в связях с ГБ лично у меня не было… Некоторые люди из безпартшколы, не имевшие к нам прямого отношения, но находившиеся с нами в контакте, попытались в те же дни захватить Музей комсомола, где собиралась беспартшкола, и объявить его Домом анархии. То есть решили воспользоваться ситуацией некоторого бардака - в расчёте, очевидно, на то, что такое состояние затянется. Но забыли старую истину, что как только власть укрепляется, она тут же начинает грести под себя всё, до чего может добраться. Короче, музей на какое-то время был захвачен. Ребята в нём забаррикадировались и подняли чёрный флаг. Некоторые наши люди прибыли к ним на помощь. Правда, недолго музыка играла, и дом этот взяли штурмом. Не ОМОНовцы (ОМОНа тогда ещё не было), а какие-то тогдашние спецполицейские (не помню, как они тогда назывались). А всех защитников несостоявшегося Дома анархии оттуда выпроводили. Вскоре после чего этот музей отобрали вместе с другим комсомольским имуществом. Ведь комсомол был молодёжной организацией запрещенной Коммунистической партии.
...И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ Августовские события привели фактически к развалу всей той структуры протоанархического движения, которая тогда существовала в Москве. Московская организация КАС стала распадаться, а её лидеры ушли в официальные профсоюзы (как Андрей Исаев и многие другие, сотрудничавшие с газетой официальных профсоюзов “Солидарность”). Возможности собираться во всякого рода комсомольских учреждениях тоже больше не было. Я слышал, что через это дело у них якобы даже пропала какая-то множительная техника, которая осталась в комсомольских помещениях, конфискованных властями после августа. П.: А что, у КАСовцев имелось что-то вроде штаб-квартиры? Д.: Выходит, что да. Но мне трудно сказать, где именно, потому что с конца 90-го года я в их заседаниях участия не принимал. Знаю только, что что-то у них под комсомольской крышей всё-таки было. Я помню, как они жаловались, что не могут больше там собираться. Впрочем, подожди… Если попробовать вспомнить, то у них, кажется, было даже две штаб-квартиры. Сначала КАСовское информагентство КАС-КОР размещалось в офисе. Туда я, кстати, пару раз заходил. Мне кажется, что это был какой-то старый дом. Потом к августу 91-го агентство (и лидеры КАС вместе с ним) переехали в комсомольскую штаб-квартиру на площади Ногина – ну где сейчас Российский союз молодежи. Вот там-то они, говорят, всё и потеряли. П.: Я не понял: ты связываешь развал КАС напрямую с последствиями Августа, или это просто временнóе совпадение? Д.: Нет, это, конечно, не было совпадением. Это была часть одних и тех же процессов. Скажем так, Август стал мощным катализатором. Ведь сильные центробежные тенденции существовали в КАС и раньше, но просто тут разрыв между верхушкой и базисом стал абсолютно чётким, потому что верхушке все эти игры в анархизм были уже не интересны. Зачем ей это? Зачем, например, митинги? Я помню, как Александр Шубин сказал мне (правда, это был, по-моему, уже 92-й год): “Время митингов прошло”. А мы-то - за действие, за самоорганизацию людей, за то, чтобы они бурлили на улицах, чтобы устраивали вече и на своих вече (общих собраниях) принимали решения о том, как всё должно жить и развиваться. Как это - “митинги закончились”? Какая там ещё к чёрту “конструктивная работа”? С кем? С этими вот - захватившими власть и такими же, как те, прежние, только ещё хуже в каком-то смысле, потому что перекрасились и сбросили с себя всякие морально-этические обязательства, хотя бы формально зафиксированные в документах их партии? Те же КАСовцы, например, могли на первомайской демонстрации при КПСС поднять лозунг: “Коммунисты, когда же ваше государство начнёт отмирать?” Ведь коммунисты это отмирание по крайней мере обещали. А эти-то, новые, уже ничего не обещают! П.: Ты, кстати, ничего не рассказал про первомайские демонстрации 90-го и 91-го годов, в которых анархисты принимали активное участие. Д.: В 90-м это была КАС, и меня там не было. В 91-м несколько наших товарищей пошли на демонстрацию вместе с анархистской молодежью. Кажется, были какие-то проблемы с полицией, но ничего серьезного… Итак, после Августа всерьез остались только мы - ИРЕАН. И на какой-то, может быть, год ИРЕАН превратилась, наверное, в самую активную леворадикальную организацию Москвы. Чем в это время занимается ИРЕАН? Когда КАС фактически перестала устраивать митинги, а рядовые её члены разбрелись кто куда; когда так называемая коммунистическая оппозиция была совершенно рассеяна, дезорганизована, находилась в полном расстройстве и не знала, что происходит и что делать; когда какие-то левые организации типа троцкистских только-только возникали и оформлялись, - в этих условиях мы фактически взяли на себя инициативу проведения регулярных оппозиционных митингов в центре города. Любимым нашим местом стала площадь перед Моссоветом: на памятнике Юрию Долгорукому была нарисована буква “А”, а около него проводились митинги. Практически каждые пару-тройку недель мы собирались там и устраивали настоящий гайд-парк: мы приходили туда с мегафоном и просто начинали говорить. Послушать нас (а иногда и выступить) приходили сотни людей. Мы говорили обо всём на свете - о том, что происходит в стране, почему такое плохое экономическое положение, почему плоха любая власть (как та, старая, так и другая, новая), о том, почему реформы, которые планировались, принесут только всеобщую нищету и разорение, о том, что освобождение цен приведёт к их стремительному росту в условиях, когда зарплата будет заморожена или, во всяком случае, её рост будет в десятки раз отставать от роста цен. То есть мы говорили о том, как будет. И так оно, в общем-то, и произошло. Приведу несколько наших тогдашних лозунгов. Один - оранжевый, стёбовый (как ответ на популярный лозунг “демократов”: “Борис, ты прав”): “Борис, ты ультраправ”. Другие лозунги, которые я помню: “Свобода людям, а не ценам”, “Рынок и Госплан – это нищета и рост цен”, “Фабрики – рабочим, дома и кварталы – жителям, государства – на свалку”, “Да здравствует всеобщее самоуправление”… Иногда нас пыталась схватить полиция. Тогда мы просто возмущенно обращались к собравшимся и просили их не давать митинг в обиду. И нередко случалось так, что люди не давали нас “винтить”… В конце 91-го - начале 92-го годов деятельность ИРЕАН разворачивалась на кризисном социальном фоне... Это было время либерализации цен, когда цены резко пошли вверх, зарплата оставалась маленькой, и получила распространение такая вещь, как перекупка. То есть кто-то скупал товар и начинал гонять его по биржам всей страны, пока он не доходил до потребителя по троекратной цене. Кроме того, тогда с продовольственными товарами было местами и временами трудновато... П.: Не местами и временами, а повсеместно. Это было тогда страшной проблемой. Д.: Ну, я не помню, чтобы в Москве реально дошло до массового голода… Но очень многого и впрямь недоставало… Я очень люблю сыр, и помню, как бегал по всему городу с высунутым языком в попытке его достать. Это было почти невозможно. П.: А я вёз килограмм сыра из того “паломничества” в Ченстохову - в рюкзаке, несколько дней, на электричках - и доставил его весьма оплавившемся. Д.: Вот, пожалуйста. Существует старое доброе средство борьбы с такими вещами - кооперативы. И я в то время пытался довольно активно обмениваться информацией с Олегом Ананяном из Социалистической партии. (Когда потом в ней случился раскол, он вместе с Абрамовичем и некоторыми другими создал организацию «Новые левые», которая, правда, тоже недолго существовала.) Ананян был известен, прежде всего, тем, что пытался организовать кооперативное движение. Причём на основе не производственных, а потребительских кооперативов. Это была тогда для меня тема достаточно интересная, потому что мне интересны были всякие формы самоуправления и любые инициативы в этом направлении. Я считал самоуправление потребителей одним из важнейших аспектов социальной деятельности, поскольку общество должно состоять из структур самоуправления потребителей и структур самоуправления производителей, которые между собой, снизу, и должны составлять планы экономического развития. Казалось бы, идея была проста: потребители собираются, договариваются, арендуют машину, едут в ближайший колхоз и закупают напрямую у производителя товар. Потом доставляют его в город и продают среди членов своего кооператива практически по той же цене, по которой его купили (плюс небольшие издержки). Казалось бы, ну что может быть естественнее? Ведь это даже не социально-революционный акт. Он не требует ни выхода на площадь, ни драки с ОМОНом, ни забастовок. Всё очень просто, тихо и организованно. Требуется только одно: добрая воля и желание друг с другом иметь дело. Но и этого не удалось сделать. Понимаешь? Я не знаю тогда ни одного случая, чтобы в Москве это получилось. О чём это говорит? П.: А я могу тебе такой случай привести. Д.: Всё-таки был один? Ну-ка, расскажи. П.: Как раз в тот период Олег охмурял этим проектом меня и моего соседа - социал-демократа Тёмкина. В конце концов, я вручил ему десять рублей на том условии, что получу за это две полукилограммовые банки дефицитнейшей тогда тушёнки. Несколько месяцев он где-то прокручивал эти деньги (шучу!) и в итоге доставил мне две банки тушёнки, но весом уже 330 граммов. И объяснил это действием инфляции. Д.: Вот и всё. Ты же прекрасно понимаешь, что кооператив так работать не может. О чём мы говорим? Я всегда привожу пример с тогдашним отсутствием потребкооперативов, потому что для меня это - самый яркий симптом социального распада, то есть неспособности людей действовать вместе. (Современный западный социолог Зыгмунд Бауман использует для этого термин “агорафобия” современного человека). Заканчивая свой рассказ про 91-й год, упомяну про то, что 7 ноября мы устроили демонстрацию с хождением под чёрными флагами по центру города. Мы вышли на Манежную площадь к Красной площади, и оказались там одновременно с 2–3 тысячами человек, в основном, видимо, сталинистами, но, вероятно, и просто недовольными… Мы стояли впереди большой толпы, нажали, повалили металлические ограждения (шпалеры), прорвали полицейское оцепление и прорвались на Красную площадь. Я помню побелевшие, побледневшие лица полицейских, которые не знали, что сейчас будет и что с ними сделают: они не вооружены, ОМОНа еще не было, заграждения выставлялись хлипкие. А мы стоим, нажимаем, поём революционные песни. И в какой момент они подались, разошлись и раздвинули эти шпалеры. И мы прорвались на Красную площадь. Сталинисты сразу побежали возлагать чего-то там к мавзолею, а мы захватили Лобное место и устроили на нём митинг под чёрными флагами. Это было красиво! Но недолго музыка играла… Наступал 92-й год. Неформальное движение закончилось, началась обычная общественно-политическая жизнь с оформлением привычных для неё течений - слева направо или справа налево, как тебе угодно. Из ИРЕАН и остатков АКРС выросла Федерация революционных анархистов, на ее основе в 95-м году оформилась Конфедерация революционных анархо-синдикалистов, КРАС, российская секция анархо-синдикалистского Интернационала… Но это уже - другая история. П.: Не к ИРЕАН ли относились те двое молодых анархистов - Кузнецов и Родионов, которые были осуждены к лишению свободы за сопротивление милиции во время акции на Лубянской площади в марте то ли 91-го, то ли 92-го года? Д.: Вообще-то, они были членами молодежной анархистской группы, которая тусовалась с Червяковым и с частью Демсоюза. Но когда они были арестованы, вся радикальная оппозиция признала их первыми политзаключенными ельцинского режима. И все анархисты выступили на их защиту. Такого единодушия я с тех пор не припомню. В этой связи было много ярких событий – пикетирование прокуратуры и суда, блокады и даже лагерь протеста перед Белым Домом. ИРЕАН сделала тогда символический жест – признала обоих ребят своими почетными членами, чтобы подчеркнуть свою поддержку им и иметь повод обратиться к товарищам за рубежом, чтобы организовать международную кампанию за их освобождение…
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА П.: Поскольку ты в нашем интервью очень много времени уделил теоретическим вопросам и проблемам своего личного восприятия тогдашней действительности, то я хочу задать тебе несколько вопросов общего характера. Итак, тебя никогда не смущала нереальность поставленных анархистами целей (в том числе по причине “агорафобии современного человека”)? Д.: Так можно ставить вопрос только в том случае, если веришь в некие объективные законы истории, не зависящие от воли и действий людей. На самом деле, историей движут идеи-силы и сражающиеся за них люди. Чем больше людей участвует в борьбе за осуществление той или иной идеи, тем больше возможности для их осуществления. Но все никогда не начинают одновременно. Следовательно, любой путь начинается с того, кто кто-то делает первые шаги. А дальше уже всё зависит от того, насколько люди смогут в процессе отстаивания своих прав и совместной борьбы за свои права и нужды взаимодействовать друг с другом, насколько они научатся солидарно действовать и помогать друг другу, договариваться о своих поступках и, тем самым, осваивать самоуправление на практике. Американский экоанархист Мюррей Букчин когда-то называл это “восстановлением общества” снизу. Я и сегодня полагаю, что это – единственная альтернатива социальной атомизации и деградации человека. А вот осуществится ли она – вопрос в перспективе открытый. П.: Не чувствуешь ли ты своей ответственности за развал зелёного движения, произошедший, в том числе, и из-за твоего стремления использовать экологические лозунги как прикрытие для подготовки социальной революции, в то время как настоящие экологи, действуя по принципу совершения малых дел в реальных условиях, чего-то всё таки смогли добиться? Д.: Смотри: если ты меня понял так, что экология была для меня всего-навсего прикрытие, то ты несколько ошибся. П.: Во всяком случае, ты дал мне основания так полагать. Д.: Я, если помнишь, формулировал это чуть-чуть иначе: экология как таковая, в чистом виде, меня не интересовала. Но это не означает, что я, словно какой-то хитрый кукловод, хотел использовать экологическое движение в каких-то совершенно чуждых для него целях. Я исходил из следующего постулата, от которого не отказываюсь до сих пор: я считаю, что господство человека над природой и господство человека над человеком - вещи взаимосвязанные. Потому что и то, и другое вытекает из самого принципа господства, из иерархического отношения к миру. Поэтому преодолеть одно без другого нельзя. Нельзя просто защищать природу, не меняя отношения общества к природе и, следовательно, не меняя отношений общества к самому себе. Это не есть инструментальное использование. Это всего-навсего доведение определённых вещей до своего логического конца и стремление показать эту логику людям. Вот и всё. Если люди поймут эту логику, поймут, что причины разрушения природы лежат глубже, чем просто какой-то местный произвол некоего недобросовестного чиновника, то тогда они и поймут необходимость смены системы. То есть, повторю, я не считаю, что это - чистая инструментализация. Мне кажется, что это - нечто совершенно другое. Это - определённая логика и доведение её до конца. Теперь - то, что касается развала движения. Понимаешь, вся беда в том, что нельзя развалить того, чего уже нет. Я не хочу сказать, что экологического движения не было вообще. Но оно было не тем, чем могло бы быть. Оно внутри было настолько рыхлым, насколько разным, настолько противоречивым, и настолько к разным вещам стремились люди, которые в нём участвовали (то есть настолько мало их что-либо связывало), что удержать его единство было невозможно. И то, как оно потом рассыпалось (рассыпалось без моего какого-либо участия), это только подтверждает. Я не подталкивал падающего. Социолог Яницкий, который всю жизнь занимался исследованием экологического движения (начиная с групп 80-х годов), в своих книгах очень хорошо проследил процесс его разложения и показал, что оно сломалось на хождении во власть и на грантах. Дело в том, что, начиная с того момента, когда экологические гражданские инициативы превратились в так называемые неправительственные организации, экологическому движению пришёл конец. И в этом грехе я уж никак не повинен. П.: Возвращаясь к теме соотношения конструктивизма и радикализма... Исаев (пусть он в твоих глазах был и плохим анархо-синдикалистом) выбрал первую из этих моделей поведения и добился благодаря этому многого: являясь одним из руководителей профсоюзов и возглавляя комитет Госдумы, он, по его словам, много полезного делает на этих постах для трудящихся масс. Разве не получилось так, что он своим конструктивизмом принёс трудящимся гораздо больше пользы, чем ты - своим радикализмом? Д.: Нет. Категорически не согласен по одной простой причине. Давай посмотрим, чего Исаев сделал и какую пользу он принёс трудящимся. Новый трудовой кодекс, в разработке которого он принимал участие? Да, это - такой подарок для трудящихся, что хоть стой, хоть падай. Ограничения на проведение стачек, вмешательство государства в трудовые конфликты, снятие контроля профсоюзов над увольнениями, возможность продлевать рабочее время… Всё это и многое другое – явная польза предпринимателям, а не трудящимся. Соглашение профсоюзов с партией “Единая Россия” о социальном регулировании и партнёрстве? Милая это штука – партнерство волков и овец! Только ведь на деле и этого нет. Предпринимателям и государству нужен не партнер, а бессловесный раб. А под завесой соглашений и, значит, при соучастии Исаева, люди имеют в реальности только продолжение антисоциальных, неолиберальных реформ. Какова официальная позиция Исаева и профсоюзов ФНПР? Что неолиберальные реформы, быть может, и не совсем то, что трудящимся надо, но раз они уже есть, то что же с ними поделаешь? Поэтому всё, что можно и нужно сделать - это их, по возможности, смягчить. В профсоюзах состоят десятки миллионов человек. И что, вот эта многомиллионная организация не в состоянии даже попытаться изменить курс реформ, если она считает нужным сделать это? Значит, может быть, не очень считает. Я не вижу, что профсоюзы с Исаевым реально сделали для людей. Это они погасили ту волну забастовок, что была в 90-х годах. Это они замяли волну шахтёрских протестов. Это они удушили в объятиях “легальности” все предпринимавшиеся попытки хоть как-то воздействовать на верхи с целью изменить их политику. Если посмотреть, сколько стачек они сорвали, сколько народного пара они выпустили в свисток, в виде резолюций, которыми власти просто-напросто подтирались – то все разговоры об их пользе для трудящихся будут звучать как издевательство. Для меня Исаев никогда не был своим. Я не люблю карьеристов и политиканов. Я даже не скажу, что он предал трудящихся. Он, на самом деле, всегда стоял с ними по разную сторону баррикад – этот “левый перестройщик”, рыночник, сторонник легализма, противник всяких революционных действий, профбосс и, наконец, политчиновник и соучастник неолиберальных и антисоциальных реформ. Логический путь, пройденный до конца… П. Последний вопрос: каким образом ты оказался в стане врагов свободы? Я всегда считал анархистов самыми последовательными носителями идей свободы, однако оказалось, что та их часть, к которой принадлежишь ты, выступает, например, против экономических свобод... Д.: А я, например, наоборот, считаю, что приверженцы анархистского коммунизма – как раз и есть самые решительные, радикальные и последовательные сторонники свободы во всех областях – социальной, экономической, культурной… Дело в том, что они понимают экономические свободы совершенно не так, как делают либералы. Для либерала экономическая (и любая другая) свобода включает в себя право устанавливать господство над другими людьми, побуждать их работать на себя и создавать для этих богачей материальные и духовные блага. Это свобода эгоиста, готового реализовать её за счет других людей. Анархисты же говорят, что свобода существует только меж равными. Не одинаковыми, подчеркиваю, но равными! Для анархо-коммунистов экономическая свобода означает возможность свободно реализовать себя как личность, иметь свободный и равный с другими людьми доступ к материальным и духовным благам. Но без установления иерархии, без господства над другими людьми, без командования ими. Это свобода солидарных людей, уважающих друг друга и умеющих свободно договариваться друг с другом. Иными словами, для анархо-коммунистов свобода категорически невозможна в обществе, в котором один господствует над другим. А при неравенстве свобода невозможна точно так же, как при отсутствии свободы невозможно настоящее равенство, поскольку остаются господа и рабы. Беседовал Алексей Пятковский. 8 ноября 2007 г.
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



