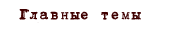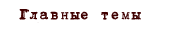|
ЮРИЙ ГЕРЧУК, искусствовед
<<< Часть 1
Часть II
Виды неподцензурного
творчества
САМИЗДАТ
Алексей Пятковский:
Теперь я хотел бы перейти ко второй, более специализированной, части
нашей беседы. Что Вы помните об обороте Самиздата, с какого периода,
как Вы с ним впервые столкнулись?
Юрий Герчук: Когда
первый раз столкнулся, не помню. Какие-то бумажки начали ходить по
рукам достаточно рано.
А. Пятковский: Тут тоже
следует по возможно более точно очерчивать период.
Ю. Герчук: Ну я думаю,
что это началось довольно быстро после смерти Сталина. Потому что при
Сталине это если что и было, то было очень ограничено. Потому что
всякий обмен такой неподцензурной информацией был тогда смертельно
опасен. Таких бумажек боялись. Не только передавать, но и держать
дома…
Пятковский: А вот
интересно: при Сталине это могли быть, скорее всего, стихотворения
каких-нибудь неразрешённых поэтов?
Герчук: Стихи, конечно,
и тогда переписывали, но не прямо запретные, а, так сказать, не
поощряемые, считавшиеся “пессимистическими”,
“упадочными”. За них не сажали, и они могли в каких-то
узких пределах ходить по рукам. В послевоенные годы круг издаваемых
авторов сужался. Популярного в народе Есенина приходилось
переписывать от руки. Любимых поэтов их поклонники переписывали для
себя со старых, не запретных, но и не переиздававшихся книжек.
Анекдоты, вещь опасная, передавались, по-моему, лишь изустно. Кто-то
мог, рисуясь, предупредить: “А вот - анекдот
на десять лет” или “...на пятнадцать”.
Уже после Сталина
появились и новые поэты, стихи которых могли распространяться в
списках. Читали Горбаневскую, которая не печаталась, знали её. Я
знаком был с ней тогда — в те примерно времена.
П: Это Вы говорите,
наверное, всё-таки об эпохе классического Самиздата второй половины
50-х?
Г: Я думаю, что в
первой половине 50-х это могло лишь начинаться. И то, не с самых
первых лет. С 53-го, наверное, это могло уже начинаться потихонечку.
Точных дат я назвать не могу.
П: Мне всё-таки
интересно, какого рода литература ходила ещё при Сталине.
Г: Я не помню вещей, о
которых я мог бы твёрдо сказать, что они распространялись тайком в
сталинское время.
П: А какой тип
произведений? Наверное, поэзия. Ведь вряд ли прозаические
произведения?
Г: Поэзия какая-то,
возможно, ходила, но я не помню стихов, про которые бы я твёрдо знал,
что я их узнал в рукописях ещё при Сталине. Ну, авторы, естественно,
делились с друзьями своей поэзией.
П: А стихами
Ахматовой?
Г: Не знаю.
П: Может быть,
репрессированных поэтов?
Г: Я не помню. Дело в
том, что те, кто писал, любили почитать стихи друзьям. Стихи могли
быть всякие. В основном, не печатные. Причём не обязательно
диссидентские. И тут твёрдой границы-то нет.
П: Хорошо. Известно,
что в середине 50-х в магазинах стали продаваться пишущие машинки, и
расцвёл классический Самиздат. Вот из этого периода Вы назвали уже
Горбаневскую...
Г: Само слово
“самиздат” тогда появилось. Оно, Вы это знаете, пошло от
этого... этого самого...
П: Глазкова.
Г: Он так называл свои
книжечки, которые делал сам. Точнее сказать, он называл их
“самсебяиздат”.
П: Да-да-да.
Г: Вот. Ну и потом это
распространилось. Ну и все бумаги, связанные с этими политическими
делами, с тем же самым процессом Синявского и Даниэля.
П: Но это уже...
Г: Это уже позже —
середина 60-х. Но это способствовало очень большому всплеску
самиздатовскому, потому что документы процесса, письма все эти —
все они пошли в Самиздат.
П: А из авторов
хрущёвского периода Вы можете кого-то вспомнить, кроме Горбаневской?
Г: Хрущёвского периода?
Солженицын ходил, в том числе большие романы. Мы все эти романы
читали сначала на папиросной бумаге. И лишь много позже перечитывали
в журнальных версиях. Это было уже в 60-х. И даже не в самом начале.
Понимаете, даже и
печатающиеся писатели не всё могли издавать. Какие-то вещи Слуцкого
ходили в Самиздате. “Бог ехал в семи машинах” - это,
конечно, ходило по рукам задолго до того, как появилось в печати.
Естественно,
распространялись стихи Бродского. Вот типичный случай Самиздата —
процесс Бродского, который очень широко ходил. Это — из таких
громких самиздатский событий.
Так что Самиздат
какой-то был. Многое приходило в дом, читалось.
П: Вы упоминали такой
интересный сюжет, как документы, появившиеся после ареста Синявского
и Даниэля. Можете что-то вспомнить про то, что это были за документы,
как они ходили, кем распространялись?
Г: Документы были
какие? Во-первых, были ведь на процессе родные и те из друзей, кто
туда мог попасть, и они вели записи. И это записи потом тоже ходили в
каком-то виде. Ну и письма протеста, которые писались, тоже потом
фигурировали в Самиздате. Я не помню: “Белая книги”
Гинзбурга, прежде чем быть напечатанной на Западе, наверное, тоже
ходила в Самиздате? Для этого и была предназначена. Так что вот это я
имел в виду.
П: Может быть,
вспомните авторов и документы Самиздата более позднего периода?
Г: Ничего я не
вспомню... Вот какие-то письма протеста, письма в защиту каких-то
конкретных людей — всё это...
П: А художественные
произведения?
Г: Я твёрдо помню, что
всего Солженицына я читал. Думаю, что было что-то из Платонова. Да,
из Платонова “Котлован” ходил. “Котлован” я
читал в самиздатском варианте.
П: Это — всё про
Самиздат, что можете вспомнить сходу?
Г: Сходу я не очень
много могу вспомнить.
П: Тогда я хотел бы
затронуть некоторые специфические особенности бытования Самиздата. Вы
сами не принимали участия в его распространении?
Г: В распространении
Самиздата? Пожалуй, нет. То есть могли быть эпизодические случаи,
которые сейчас уже и не припомню. Но систематически — нет.
Я мог передавать
кому-то какие-то письма. Более того, однажды я передал некоему
итальянцу (я его уже упоминал; это — тот самый, что говорил об
Абраме Третьем) пачку лагерных стихотворений ещё сидевшего тогда
Даниэля — с тем, чтобы он их увёз на Запад. И он с
удовольствием взял. А был ли это тот путь, которым они туда на самом
деле пришли, и были ли напечатаны с этого списка, я не знаю.
П: Я так понимаю, что
из лагеря они были вывезены при свидании?
Г: Стихи?
П: Да.
Г: Даниэль нередко
посылал их в письмах.
П: Да-а-а?
Г: Писал их в письмах —
стихи. Большинство. Может быть, что-то могло быть вывезено при
свиданиях. Но посылать в письмах стихи ему не запрещали..
П: Это были
обыкновенные лирические...
Г: Да, письма.
П: ...а не политические
стихи?
Г: Ну были и
более-менее политические. Но я не помню; вероятно, они и не в письмах
дошли, а другим путём. Может быть, при личных свиданиях вывозились.
Многие лирические стихи в его письмах имели даже посвящения
женщинам-приятельницам, его корреспонденткам: Ирине Глинке, Алёне
Закс, Майе Улановской и другим. И моей жене было посвящено одно из
стихотворений. Так что эти письма проходили через лагерную цензуру.
П: Помните ли Вы, чтобы
кто-то из Ваших знакомых занимался размножением и распространением
такой (и вообще любой) самиздатской литературы?
Г: Наверное. Были люди,
которые даже пострадали именно за это — за размножение
самиздатской литературы, за переписку на машинке. Как же звали эту
женщину? Да, Вера Лашкова.
Да, конечно, были.
Кто-то этим занимался специально.
П: А помните ли Вы о
существовании рынка Самиздата?
Г: Я с ним не
встречался. В моём кругу этого не было.
П: А можете ли Вы
ответить на вопрос о том, когда Самиздат прекратил своё
существование?
Г: Думаю, что он
прекратил своё существование тогда, когда стало можно печатать эти
вещи легально. До этого времени он явно существовал.
П: У Александра Даниэля
другое мнение на этот счёт, но я лично согласен с Вами.
Г: Ну не знаю. Ему,
может быть, виднее: он этим занимается в специальном учреждении,
которое этим ведает, но у меня такое впечатление, что пока нельзя
было что-то интересное людям напечатать, это должно было уходить и
находить распространителей другими путями.
МАГНИТИЗДАТ
А потом: что такое
Самиздат? Вот были песни Галича. Они ходили на магнитофонных лентах.
Были песни Высоцкого. Песни Окуджавы, которые тоже не издавались.
Всё это, в основном, ходило на магнитофонных лентах. И это тоже была
форма Самиздата. Кроме того, сами они, все – не только поэты,
но и исполнители, и пели свои песни в домах. И такие сеансы я тоже
помню. Помню сеансы Высоцкого....
П: Это интересно. В
интервью мне ещё никто эту тему не затрагивал, и поэтому я попрошу
Вас попытаться вспомнить период и место проведения этих домашних
концертов.
Г: Место проведения
было само разное. Например, в журнале “Декоративное искусство”,
в котором я работал, однажды был вечер не помню по какому поводу —
какой-нибудь юбилейчик или что-нибудь... Пригласили Высоцкого. И он
пел там, в редакции. И было достаточно свободно устроено, никакой
особенной тайны. Я отца привёл послушать (он интересовался). Это было
можно.
П: А тот концерт в
Вашей редакции был организован чем-то вроде профкома?
Г:
Нет, у нас в редакции, слава Богу, никакого профкома не было.
Редакция журнала, в административном смысле — отдел
издательства, но автономный. Мы помещались в другом месте и вели себя
во многом самостоятельно. Это была не только служба, но и какой-то
дружеский круг. Не то что бы специально диссидентский, но дружеский.
Мы все считали себя достаточно либеральными, журнал был либеральный,
не вполне правоверный. В этом смысле мне, кстати сказать, повезло.
Так было не везде и не всегда.
...А впервые Высоцкого
я слышал в Даниэлевском доме на Ленинском — уже после ареста
хозяина. А впрочем, не совсем впервые. Это была первая для меня
программа его песен, но до того, ещё за несколько лет, однажды в доме
Синявского, читавшего тогда курс литературы в школе-студии МХАТ, пел
под гитару его студент. Своих песен он ещё не имел тогда и пел
Окуджаву: “Вы слышите, грохочут сапоги!..” Пел не с
авторской лирически-грустной интонацией, а уже голосом Высоцкого, с
его напором, грубо и резко, совершенно меняя образ песни.
П: Вы не вспомните, это
были концерты чисто дружеские, или же они имели коммерческую
подоплёку?
Г: Бывали и за деньги,
потому что надо было поддерживать людей, лишившихся легального
дохода. Это не выглядело так, что, мол, наняли певца, а так, что
собрали деньги в помощь гонимому.
П: Больше Вам про
концерты сказать нечего?
Г: Ну это было довольно
распространённое явление. Я слушал не так много таких концертов, но
вообще-то они были в обычае.
Я сейчас вспоминаю, в
каких домах я кого слушал. Из таких типично самиздатских авторов Ким,
конечно, был уже тогда тоже. Уже много позже я увидел в Питере его
первую пластинку. Там его знали меньше, и поэтому она лежала на
прилавке и не разлеталась сразу, как в Москве.
П: Вы имеете в виду,
что пластинка Кима вышла ещё в советские времена?
Г: В советские.
П: До Перестройки?
Г: Ну, может, в начале
Перестройки. Я не помню, когда это было. Наверное, всё-таки, в начале
Перестройки. Хотя песенки там были без политики.
П: Дело в том, что он
же в советское время был лишён имени и, например, в фильмах выступал
под псевдонимом Ю. Михайлов.
Г: Нет, это была
пластинка уже с его именем. Там были песни из кинофильмов - “Пираты”
(“Через глаз повязка, через череп — шрам”) и такого
рода. Но я уже хорошо знал, кто это такой, потому что я к тому
времени его не раз слышал в каких-то домах.
И ещё о концертах в
дружеском кругу... Был ещё автор в самом тесном даниэлевском кругу.
Это – мачеха Ларисы Богораз Алла Зимина. Отец Ларисы,
вернувшись из сталинских лагерей, привёз жену. Она была когда-то
эстрадной актрисой из известной дворянской фамилии. Её девичья
фамилия – Олсуфьева. Она сочиняла живые и трогательные песенки
и пела их в семейном и дружеском кругу. Мы все её очень любили. И это
тоже были такие домашние концерты. Приходили её послушать люди,
близкие к кругу Даниэля. Их было довольно много, потому что он был
человек общительный. Тоже записывалась на магнитофон, и где-то эти
ленты ходят. Можете у Сани спросить; у него, наверное, есть ленты
бабушки.
О
ХУДОЖНИКАХ-НОНКОНФОРМИСТАХ
П: А теперь я попрошу
Вас рассказать о том, как и когда Вы впервые столкнулись с
творчеством художников-нонконформистов, которое Вы знаете, наверное,
лучше, чем кто-либо из наших современников.
Г: Начать важно вот с
чего. Если в литературе основным предметом нелегального творчества
были политические мотивы (даже если это была художественная
литература, то всё равно к ней претензии были главным образом
политические), то в изобразительном искусстве была масса претензий,
не имеющих политического характера вообще. Потому что были
установлены не только определённые принципы советского искусства
(социалистического реализма), но и его, так сказать, внешние приметы,
границы зримого правдоподобия, нарушение которых каралось отлучением,
по крайней мере, от искусства. Не лагерем, не судом, как правило, но
тем, что человек оказывался вне игры. И борьба шла не за право
протестовать против каких-то несправедливостей, изображать
заключённых, расстрелянных или ещё кого-то, а за право просто
работать в изобразительном искусстве на свой вкус. Художник при этом
мог быть вполне лояльным и даже легальным, то есть он мог, например,
исправно иллюстрировать книжки, а у себя дома, в своей мастерской,
скажем, на холсте, так или иначе экспериментировать с цветом и
формой, нагнетать экспрессию или символику. И эта иная стилистка
делала соответствующую часть его работы нелегальной. И это уже —
параллель Самиздату, то есть вещь, которая показана на официальной,
открытой, выставке быть не может. Или если эта вещь - “сомнительная”,
“половинчатая”, она может появиться на выставке, а может
быть и снята с нее. Придёт какое-нибудь начальство и снимет. Придёт
цензура и снимет. И не по политическим мотивам, а потому что она “не
так написана”. Цензурировать выставки было тогда доверено
Отделу культуры Мосгорисполкома. Перед открытием приходила
какая-нибудь чиновница и могла потребовать снять какие-то работы,
найти их “формалистическими”.
Один из самых сейчас
знаменитых в мире наших художников, живущий за границей, но в
последние годы делающий выставки уже здесь — Илья Кабаков —
был такой вот художник-диссидент, который делал вещи, вызывавшие
определённый ажиотаж в художественных кругах. Они не выставлялись, а
показывались приглашённым у него в мастерской. Но в то же время он
был знаменитым иллюстратором детских книжек, выходивших стотысячными,
даже чуть ли не миллионными, тиражами. О нём можно было писать и
печатать на глянцевой бумаге, как он рисует детские книжки, но о нём
буквально не было упоминаний как о живописце.
П: Ну это — та же
ситуация, что и с советским литературоведом Синявским.
Г: Более или менее. Но
там всё-таки был политический подтекст. Сам Синявский говорил, что у
него с советской властью стилистические разногласия (и это верно),
но, конечно, кроме стилистических были ещё и другие. А тут могло и не
быть.
Более того, вот с чем я
имел дело многократно уже в свой практике. Художник, член союза,
участник выставок... Две-три его картинки висели или лежали в
витринке даже на самой официальной Всесоюзной выставке. Я пишу о нем
статью. “Нет, не надо, - он у нас официально не признан”.
И мне приходилось пробивать статьи о художнике. Иногда статья
проходила довольно сложное путешествие по редакциям. Потом удавалось,
наконец, её где-нибудь просунуть. Опять же — никакой политики.
Чисто эстетические разногласия между советской властью и художниками,
которые хотят работать всего лишь в другой стилистике.
Вообще, борьба с
“формализмом” началась у нас ещё в 30-х годах. Почти
всякие поиски современного художественного языка, приближенного к
духу времени стиля и почерка, вызывали настороженность власти,
осуждение и отрицание. “Формалистов” сперва
“перевоспитывали” («для их же пользы»,
разумеется), а потом отлучали от легального художественного процесса:
не брали на выставки, не покупали и не заказывали работы. (А
свободного художественного рынка, не государственного, в стране
практически не было.) Его прорабатывали в Союзе художников; упорных
могли и исключить. Постепенно рамки того, что может себе позволить
художник, сужались, и к концу сталинских лет искусство было доведено
до стадии абсолютного самоповторения и застоя не только в
содержательном смысле, но и в смысле стилевом, эстетическом.
Некоторые возможности
возобновления живого творческого процесса пришли с Оттепелью.
Начались поначалу ещё робкие поиски новых возможностей выражения
себя, выражения личности в искусстве, выражения своего отношения к
миру, в том числе и к природе, к внешнему миру, к литературе —
ко всему. Процесс продолжался на протяжении всей Оттепели, да и после
неё, но тоже с постоянным сопротивлением властей. Однако продолжался
и был возможен. Бывали эксцессы — вроде того, который произошёл
при посещении Хрущёвым Манежа. Это уже в самом конце Оттепели —
за год примерно до его снятия.
П: По-моему, это —
в 62-м году...
Г: Это произошло в
конце 62-го года, 1 декабря, а сняли его в 64-м. Значит, несколько
больше года.
Об этом событии,
кстати, я написал книжку. Последняя моя работа — именно об этом
эпизоде: что, почему, отношения участников с разных сторон,
предшествующие события, которые к этому вели... Всё это иногда
изображается слишком схематично. В реальности дело обстояло несколько
сложнее. Там было много подводных ходов.
П: Вы можете рассказать
что-нибудь об истории своих отношений с теми, кого было принято
называть художниками-нонконформистами?
Г: С теми, кого сейчас
называют нонконформистами, у меня не было особенно тесных отношений.
Хотя я был знаком с некоторыми из них. Скажем, Юрий Соболев —
довольно известное диссидентское имя. Не только художник с ужасавшими
власти сюрреалистическими вкусами, но и идеолог, вожак, один из
центров притяжения авангардной молодежи. Но он при этом был одно
время главным художником журнала “Декоративное искусство”,
где я работал тогда и где я с ним и познакомился. Там он недолго был.
До этого ещё он несколько лет был главным художником в издательстве
“Знание”, где он создал определённый стиль –
художественное лицо издательства, с чертами свойственных ему
метафизических вкусов. И он привлек туда многих близких ему по духу
художников. Потом - в журнале “Знание — сила”. То
есть он был человек вполне легальный. Но при этом как художник он
интересовался сюрреализмом, что не полагалось. Хотя кое-что из этого
он вносил и в издания, которые делались под его эгидой.
П: Накануне этой нашей
встречи я спросил известного Вам Арсения Рогинского о том, какой
специфический вопрос он может посоветовать мне задать Вам в ходе
предстоящего интервью. Арсений любезно порекомендовал мне расспросить
Вас о том, как Вы знакомили Синявского и Даниэля с творчеством
представителей каких-то неофициальных художественных направлений, в
частности, Лианозовской школы.
Г: С лианозовцами я
знаком не был и знал их лишь понаслышке. Однажды даже написал
несколько хулиганское письмо в Союз художников по поводу того, что их
ругали в МОСХовской газете. Не выставляли, но ругали. И ругали
довольно хамски. Я написал письмо Дмитрию Александровичу Шмаринову,
председателю московского отделения союза, о том, что это —
нехорошо. И послал туда по почте. Вероятно, он получил. Думаю, что
прочёл. Но ответа я не получил. А распространить его я как-то тогда
не сумел — не знал толком, как это делается. Кое-кому
показывал, но так оно у меня и осталось. И о нём никто не знает.
Письмо это где-то есть, и я его могу даже показать. Это было как раз
по поводу лианозовцев. И это был, по-моему, единственный эпизод моего
прямого вмешательства именно в борьбу с якобы диссидентами.
(Лионозовцы не были диссидентами, конечно.)
П: Что же, неужели Вы
даже не ходили на так называемые квартирники?
Г: Был. Был несколько
раз на квартирных выставках. Очень любопытное впечатление было у меня
от выставки, которая была на квартире у Рабина.
П: Вспомните, когда это
было.
Г: Восьмидесятые это
были... или ещё семидесятые годы. Точнее сейчас не вспомню. Было
несколько квартирных выставок в Москве одновременно. Была целая
акция: в разных квартирах одновременно были устроены выставки.
Я был, наверное, в
трёх. Какие-то вещи были мне более-менее знакомы. То есть не эти
самые вещи, но художники и характер их работы. Какие-то не были
знакомы. По-моему, я там первый раз увидел Комара и Меламида. Так
что, понимаете, это было не в очень ранние времена, потому что это
были художники уже другого поколения — основатели соцарта.
Потом меня повели к
Рабину. Уже закончились эти выставки, но работы ещё не были сняты.
(Только, так сказать, официальный срок работы кончился.) И меня и ещё
одного или двух искусствоведов повели показать выставку в квартире
Рабина. Я его тогда впервые видел. Собственно, и единственный раз. Он
произвёл впечатление.
Домик был, по-моему,
вроде этого. (Беседа проходила на квартире Ю. Герчука в панельной
пятиэтажке, - АП.) Где-то на первом этаже мы позвонили в дверь. Вышел
наголо бритый человек (с бритой головой), сказал: “Проходите”.
Извинился, ушёл на кухню.
Мы пошли в комнату, где
стоял только мольберт. На мольберте была картина недописанная.
Изображал он тогда такой окраинный пейзаж со снегом. Чёрные домики и
какой-то сюжетный мотив: либо голая женщина лежит на снегу, либо
корова выглядывает из-за угла. В общем, что-нибудь в этом роде,
возбуждающее внимание. (Несколько таких вещей висело на стенах и
подобную же он писал.)
Через несколько минут
Рабин вернулся в комнату, сел за мольберт и продолжал писать, светски
разговаривая с гостями. Мы ходили вокруг, заглядывали за мольберт,
посмотреть, что висит за его спиной, потому что все стены были сплошь
увешаны выставкой. (Мебели в квартире, кроме мольберта, не было
никакой, и небольшие картины разных авторов были развешены по стенам
от пола до потолка.)
Я там увидел его ранние
этюды, которые мне показались интереснее, чем то, что он делал
позднее. Висела какая-то картина довольно большая, где был изображён
в сильно увеличенном размере его паспорт. “А это —
репродукция.”
П: Это чья реплика
была?
Г: Какая?
П: Насчёт репродукции.
Г: Его, Рабина.
Всё это произвело на
меня такое впечатление, что человек уже как художник кончился, а
продолжает лишь производство определённого товара. И это, вообще,
действительно, со многими из них происходило. Кто-то этого сумел
избежать, но многие не избежали. Те их работы, которые здесь
преследовали и которые денежной цены здесь не имели, стали активно
покупать за границей. Они их стали делать в большом количестве,
повторяться и во многом сгубили себя как художники на этом.
Я как раз сравнивал
такие картины с ранними этюдами того же Рабина, которого, в общем,
по-человечески уважаю, но не люблю как художника. Мне не нравится то,
что он делает. Хотя его мемуары любопытны. А вот картины мне гораздо
меньше нравились. И вот мне уже тогда показалось, что он перестаёт
быть художником.
Подобные же вещи были и
с Целковым, который открыл своего страшного человека-маску
(редкозубую нечеловеческую маску). И десятилетиями штампует её: две
маски, три маски, маска в одном цвете, маска в другом цвете... Это
превратилось в производство. И он до сих пор этим занимается, хотя уж
сколько десятилетий прошло. Теперь лишь появился какой-то более
изысканный колорит — розовый, голубоватый... Те же вещи
раскрашиваются, но они же всё те же по сути. Ну он уже мэтр, он себе
может позволить ничего не искать, а лишь варьировать.
Это бывает. И с
официальными художниками это тоже бывает, и даже гораздо чаще. Когда
талантливый молодой скульптор получает вдруг заказ на памятник, можно
считать, что — всё, он практически кончился (он уже будет
штамповать одинаковые фигуры). Такие вещи я тоже наблюдал.
Художники андеграунда
все очень разные, со временем это видно всё яснее. Лишь немногие
кажутся мне интересными; большинство, пожалуй, нет. На самом деле,
работал я больше не с этими художниками. Вот меня очень интересовал
Юло Соостер. Он иллюстрировал фантастику. Я эти книжки тогда читал,
и мне нравится, как он их интерпретировал. Но, кроме того, Соостер
был и живописцем очень своеобразного метафизически-сюрреального
стиля, и в этом качестве он не котировался официально, и выставки в
каких-то клубах, на которых он пытался показать эти вещи, тут же
закрывались.
Это было такое время,
когда устраивалось много выставок по клубам. Кто-то договорился с
директором: “Вот у вас — пустые стены, никто к вам не
ходит. Мы сделаем выставку молодых художников. Привезём, сами всё
развесим, этикетки напишем, позовём людей. У вас всё-таки что-то
будет происходить в вашем клубе. Вы потом в отчёте напишете...”
Привозили, развешивали вот этот самый авангард, и в тот же день к
вечеру появлялось начальство, милиция, выставку закрывали и всё
увозили обратно. Вот он в таких акциях постоянно участвовал.
Он рано умер —
сорока лет. Был лагерник. (Сидел он ещё в сталинское время.) Очень
интересны его лагерные рисунки.
П: Да, ими он больше
всего и известен.
Г: Да, пачка рисунков,
которые побывали в огне, потому что ему там запрещали рисовать.
Даниэлю повезло — ему стихи не мешали писать и даже посылать в
письмах, а вот художнику — запрещали рисовать. И он пачку
рисунков выхватил из огня. Они обгорелые, но от этого ещё гораздо
выразительнее.
Вот. Я написал
некролог. Его не напечатали (нигде не мог просунуть). Он не был
членом Союза художников, хотя печатался. Понимаете, фантастика
печаталась стотысячными тиражами и пятисоттысячными. Но в Союз его не
брали. Статья напечатана лишь через много лет в сборнике “Искусство
книги”. На мелованной бумаге, в совершенно другом качестве. Но
это было уже в другую эпоху — статья как о почти уже классике.
П: В своём интервью с
художником-нонконформистом Александром Тумановым я попросил его
прокомментировать такое интересное явление, как неофициальные салоны.
Вот об этом Вы что-то можете рассказать?
Г: Я, пожалуй, в них и
не бывал. Но кое-что слышал, знаю.
Были такие вещи. То
есть, это опять же... Поскольку всякая общественная (коллективная)
деятельность преследовалась, то формально никто никаких салонов, в
общем-то, не устраивал. Но были люди, которые собирались в каких-то
мастерских, обычно в подвале или на чердаке, где были мастерские
средних художников. Не самых знаменитых и именитых, которые могли
дворец построить в качестве мастерской, а такой вот подвал.
Среди картин, среди
гипсов стоял стол, собирались люди, приносились вещи в папках,
ставилась закуска, выпивка, велись разговоры. Это и был, собственно,
салон.
Такой был у Соостеров
как раз, кстати. И ещё во многих художнических домах, во многих
художнических мастерских были такие. Я думаю, что Вы это и имеете в
виду, говоря о салонах.
П: Я думаю, что нет.
Существовал ряд настоящих квартирных салонов, наиболее, наверное,
известный из которых держала Ника Турбина. (Последний, по мнению
многих, существовал “под патронатом” КГБ).
Г: Я в этом салоне не
бывал. Что-то я о нём читал недавно в какой-то нынешней литературе,
по-моему. В чьих-то воспоминаниях. Но бóльших подробностей не
знаю.
Насчёт КГБ я скажу вот
что... Тогда, вообще говоря, была такая мода — подозревать друг
друга в разных нехороших вещах. Слухи ходили и о многих моих
знакомых, которых я вовсе не считал и не считаю стукачами и такое
поведение которых ничем никогда не подтвердилось. Кто-то попадает в
кампанию, видит малознакомого или совсем незнакомого человека: “А
этот что здесь делает? А чего это он слушает?” А может, потом
пойдёт куда-нибудь, с кем-нибудь поделится, и пошла сплетня. Такого,
по-моему, было довольно много. Так что я стараюсь таких слухов не
распространять без полной уверенности.
П: Я согласен с Вами.
Г: Они и до сих пор
возникают иногда — не у самых умных людей.
П: А Вы не были
свидетелем каких-то скандальных событий типа Бульдозерной выставки?
Г: Бульдозерной
выставки я не видел. Выставку манежную я видел.
П: Какую Вы имеете в
виду?
Г: Ну вот эту, на
которую Хрущёв пришёл. Я её видел, она мне очень нравилась. Это было
событие. Но естественно, когда пришло начальство, меня там быть не
могло. Я как раз по этому эпизоду собирал сведения из разных
источников — из архивов и от свидетелей — и сделал
книжку.
Скандальных эпизодов
такого масштаба, собственно, два и было. Больше не было. Они оба
имели, конечно, последствия, но разные. Манежный, в частности,
закрепил существование двух искусств, разделив их чётко: вот —
диссиденты, участники неофициальных выставок, каких-то неофициальных
студий, и официальные художники, которые, там, - левые они или
правые — тяготеют к легальной творческой деятельности.
Они на этом, можно
сказать, рассорились, потому что в Манеж была перевезена выставка
одной такой студии, которая была названа абстракционистской. Эта
студия Белютина не была такой на самом деле, но была, действительно,
авангардной (по тем временам). Но это был довольно поверхностный
авангард.
Работы студийцев были
перевезены в Манеж на второй этаж (туда, где были рабочие комнаты
дирекции) для того, чтобы показать Хрущёву и с ним пришедшим людям.
Она не была частью той выставки Московского союза художников, которую
тоже ругал Хрущёв, но ругал не в таких страшных выражениях и не так
отчаянно. И потом о них, естественно, стали говорить и даже писать
как об одном и том же: вот, на МОСХовской выставке было то-то и
то-то.
П: Значит, этот, как
считается, подготовленный окружением Хрущёва взрыв негодования был
именно в МОСХе?
Г: Привезли их туда же
— в Манеж, где была выставка к тридцатилетию МОСХа. Громадная
выставка. Она занимала весь Манеж и ещё какие-то там антресоли. (Были
еще антресоли, на которых был буфет и пара рабочих комнат каких-то.
Их освободили и развесили картины белютинской студии.)
А в белютинской студии
уже начинался отдельный скандал, потому что у них побывали (тёмная
история, которую распутать так и не удалось) иностранные
корреспонденты — то ли о ней прослышавшие, то ли приглашённые
специально. Снимали на киноплёнку и потом показали где-то за
границей, причём под лихой шапкой: “Абстрактное искусство на
Коммунистической улице” (где находился этот самый Дом учителя,
в котором была первоначально развешана выставка).
Так вот, эту выставку
печать спутала с МОСХовской выставкой, и МОСХ, деятели МОСХа,
художники (в том числе хорошие, порядочные художники) всячески
открещивались от этого соседства. Ну и, собственно говоря, продали
другое крыло искусства. И вот остатки этой вражды до сих пор не
исчезли ещё до конца. Они, может быть, уже не помнят, откуда она
пошла, но она ещё идёт.
Р: Ну это Вы уже,
наверное, начала пересказывать свою книгу...
Г: Отчасти да —
об этом я писал.
П: ...поэтому, может
быть, на этом мы и поставим точку?
Г: Да ради Бога —
пожалуйста. Как хотите.
П: Нет, ну если Вы ещё
что-то...
Г: Я хочу вспомнить,
как я приходил писать о художниках. Я занимался больше всего
графикой, писал о художниках, которые выставлялись, но не были любимы
властями и официальной критикой.
Есть такой Юлий Юльевич
Перевезенцев. Хороший график, который где-то в конце 60-х годов
занимался промышленной графикой, работал в соответствующей мастерской
худфондовской, делал какие-то этикетки или товарные знаки и, кроме
того, начал заниматься офортом — очень интересно, очень
своеобразно.
В те времена
господствовала ещё чёрная линогравюра на больших листах, грубая и
резкая. А он начал делать тончайшие маленькие миниатюрные офортики
такого романтического склада. Очень выразительные. Это было новое
слово, новый этап развития искусства графики. И мне это нравилось.
Я о нём написал статью.
Долго её проталкивал в разные издания, причём где-то не брали по
одной причине, где-то — по другой. Самое интересное было, когда
мне пересказали разговор на заседании редколлегии сборника:: “Вот,
статья Герчука о Перевезенцеве”. “Перевезенцев? - он же
уезжает”. И статью в очередной раз снимают. Мне об этом
рассказывают; я иду к Перевезенцеву, говорю: “Вы что, уезжаете?
(Мне так сказали)". Не дай Бог! Никакого намерения не было. Он
тогда был женат на еврейке, так что это было технически возможно, но
уезжать не собирался. В конце концов, статья была напечатана, но
прошло несколько лет.
Это была тогда довольно
обычная деятельность критика — попытаться расширить поле
легального искусства за счёт художников, которые находятся где-то на
его окраине, периферии. Я этим занимался несколько лет довольно
усердно. Несколько таких статей с некоторым трудом напечатал. Чего-то
не удалось напечатать, что-то — сумел.
П: На Западе Вам не
приходилось печататься в те годы?
Г: Что-то переводили из
того, что я написал. Но нелегально, нет, не печатал ничего.
П: Переводили из того,
что было опубликовано в советских изданиях?
Г: Да. Но немного.
Вот. Собственно говоря,
это — всё, наверное.
24 июля 2009 г.
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|