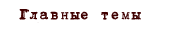
 |
|
ЮРИЙ ГЕРЧУК, искусствовед
Часть IДруг Семьи
ИСТОКИ И СМЫСЛ ДИССИДЕНТСТВА
Алексей Пятковский: Юрий Яковлевич! Расскажите, пожалуйста, о том, как и когда Вы впервые столкнулись с диссидентами (или будущими на тот момент диссидентами). Юрий Герчук: Существовала такая неформальная среда, в которой будущее диссидентство вызревало постепенно. И я не могу назвать такого дня или какого-то конкретного разговора, с которого оно проявилось. И что значит “диссидентство”? Это - недовольство властью, недовольство порядками, неприятие казённой пропаганды. Оно вызревало с очень давних времён. И поскольку это было запретно и сперва очень страшно... Я помню, скажем, один разговор в гостях у моего тогдашнего соседа и приятеля - политический разговор с его знакомым... А. Пятковский: Я попрошу Вас называть год или хотя бы период, к которому относятся описываемые Вами события. Ю. Герчук: Я не помню года, но это было ещё в сталинские времена - это точно. Это было в начале 50-х, потому что мы были там уже вдвоём с женой (а поженились мы в начале 50-х). ...И вот этот знакомый вызвал нас на политическую откровенность. Мы с ним поговорили, а вечером, вернувшись домой, были просто в ужасе: “Что мы наговорили незнакомому человеку?! Может быть, завтра он побежит, всё это выложит, где надо, и - конец”. Тогда всё обошлось, но атмосфера была именно такая. Так что диссидентами мы были между собой и со своими разговаривали очень откровенно. И делать это стали очень рано. Сейчас часто приходится читать или слышать, что кто-то прозрел и стал диссидентом тогда-то и тогда-то, когда с ним что-то случилось, и он что-то узнал. Я не могу припомнить такого времени, когда это началось у меня. Это вызревало очень постепенно, с каких-то ещё совершенно детских и школьных размышлений о том, что вокруг нас происходит. И это превращалось в осознанное диссидентство в течение многих лет очень постепенно, без каких-то переломов. Если говорить о конкретных людях... Пятковский: Да. Поскольку предметом моих интересов является деятельность участников диссидентского движения, то я бы попросил Вас рассказать об обстоятельствах Вашего знакомства именно с теми людьми, которые впоследствии получили известность как диссиденты. Герчук: Ну хорошо... Я познакомился с этим кругом людей где-то, наверное, около середины 50-х годов - с Юлием Даниэлем, с Андреем Синявским, с женой Даниэля (это была очень известная впоследствии правозащитница Лариса Богораз, которая осталась нашим с женой другом до конца жизни). Они были друзьями. И я вошёл в этот дружеский круг, который был достаточно по тем временам вольнодумен, но не был специфически диссидентским, то есть не боролся с советской властью. Тогда вряд ли этим кто-нибудь уже впрямую занимался. Это началось несколько позже - прямая и открытая борьба. Она началась, в частности, после процесса над ними, который стал движущей силой этой борьбы, включил её. П: Как считается, с него, собственно, и началось правозащитное движение. Г: С него началось противостояние власти, насколько оно было организованным тогда. Оттепель продолжалась десять лет, и за это время прошло несколько важных этапов. Но организовываться побаивались. Организаций боялись, и сам факт организации был прямым поводом для преследований - практически вне зависимости от того, чем эта организация хотела заниматься. Для власти это был “сговор” (всё равно, по какому поводу), и этого там очень не любили. Поэтому начало формальных организаций, связано, наверное, с правозащитными группами, порожденными Хельсинкскими соглашениями, борьбой за то, чтобы задействовать соответствующие параграфы этих соглашений, - вот с них начались собственно организации. А вот знакомства и вольные разговоры... Ну это были не первые свободные разговоры, которые мы вели с своём кругу. Интеллигентский круг был тогда полон этими разговорами, но с разной степенью откровенности. Все говорили с опаской, но, тем не менее, недовольство властью было довольно широким, хотя и не переходившим ни в какие-то действия и ни в какие прямые намерения. Это было просто личное недовольство режимом, которое было, на мой взгляд, очень распространено.
ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ Собственно говоря, о нём я услышал от Сергея Хмельницкого, моего тогдашнего приятеля, раньше, чем с ним встретился – Даниэль преподавал ещё тогда вне Москвы (в городе Людиново Калужской области, небольшом районном городке), а потом переехал в Москву. И тогда я с ним уже познакомился. Сергей Хмельницкий учился с Синявским в школе в одном классе; с Даниэлем я не помню точно, как он сошёлся. С Хмельницким же сначала познакомил меня один мой приятель, а потом уже тот меня знакомил со своими знакомыми, друзьями или полудрузьями. П: Когда это было? Г: Это было начало 50-х. Но, по-моему, уже после Сталина. У Даниэля был очень открытый дом, в котором бывала масса людей. И там я со многими людьми познакомился, и мы стали дружить. У нас был такой дружеский кружок с общими интересами. Хмельницкий был архитектор и неплохой поэт (писал хорошие стихи в киплинговских тонах, но не печатался). После института он несколько лет работал в Средней Азии архитектором, и азиатская тема довольно заметно проходила в его стихах. Мы тогда эти стихи знали наизусть; я и сейчас кое-что помню. Тем более, что они у меня есть - основные (из книжечки, которую он потом издал). У нас были общие культурные интересы - интерес к живописи, интерес к литературе. Подобные были и у Даниэля и его жены. Он тогда преподавал в школе литературу. И тоже писал стихи (тогда – лишь домашнего характера). У меня сохранилось одно стихотворение из его стихотворной переписки с Хмельницким. Оно очень показательно для настроений того времени. Вот это о том, что нас сближало. Друзья пытались пописывать. Даниэль начал повесть о заинтересовавшем его историческом персонаже из ХVIII века - крестьянине, который знал несколько языков, что-то переводил, общался с учёными людьми в Петербурге и так далее. Читал друзьям главы. Меня это интересовало, я занимался отчасти тем же временем. Повесть он эту (как я сейчас понимаю, очень неважную) написал и пытался её напечатать. Не сразу это получалось, но потом появился даже сигнальный экземпляр (я этот экземпляр в доме автора держал в руках), однако это по времени совпало уже с его арестом. Так что книга не вышла. И по-моему, хорошо, что не вышла. Потому что она особой чести ему не делает. Это - довольно банальная историческая беллетристика, хотя и несколько ироническая. Впрочем, что-то из нее позднее, на рубеже 80-х и 90-х годов, печаталось. Но о прототипе героя у меня несколько иное представление, чем у него было тогда. Под конец он нашёл некоторые документы, (они, кажется, где-то были опубликованы), которые меняли картину, вносили в неё существенный акцент, который он не учёл, а он, по-моему, был важным. (У него была теория, что такую историческую прозу следует писать легко, опираясь лишь на школьное знание истории.) А однажды он начал писать нечто другое. И прочёл начало небольшой повести или большого рассказа о секретаре райкома, который превратился в кота. Чистая ирония. Но на политические темы, темы нашей жизни, - как они видятся, чуть отойдя от неё в сторону. И очень радовался этому, потому что он почувствовал какую-то внутреннюю свободу. П: Прошу прощения! Вы думаете, это было первое его произведение из числа не предназначенных для публикации здесь? Г: Насколько я знаю, первое. Во всяком случае, ничего более раннего, никаких проб, я не знаю. Может, и могло быть что-то в иронической переписке с другом такое политическое, но это не была еще литература. Притом и этот рассказ о коте не был ни в коем случае началом какой-либо политической борьбы. Это были чисто творческие искания. Как и то, с чего параллельно начинал Синявский. П: Вы можете хотя бы примерно датировать тот период, когда он Вам читал этот рассказ? Г: Конец 50-х - начало 60-х. Скорее, конец 50-х. П: Дело в том, что, насколько я помню из автобиографической прозы Синявского, они начали пересылать во Францию свои произведения уже в середине 50-х годов. (Точнее, А. Синявский своё первое произведение отправил в марте 1956 г., а первая его публикация там состоялась в 1959 г. Начиная с 1959 г. стал посылать за границу свои произведения и А. Даниэль, - АП.) А Вы говорите, что первое из них было написано в конце 50-х. Г: Я не помню точно дат. Всё-таки более полувека назад. Может, я перетаскиваю это всё попозже. Может быть. Всё-таки до середины 60-х, когда их арестовали, было написано довольно много. Но сколько времени прошло, я точно не знаю. Но, может быть, это — конец 50-х. Середина 50-х, мне как-то кажется, маловероятна. Но может быть. Может быть. Мы были тогда знакомы, были уже друзьями, так что всё могло происходить достаточно рано, но когда происходило на самом деле, я не знаю. Впрочем, вот пожалуйста: “Рассказы эти были написаны примерно в 56-57-м годах. Точнее вспомнить не могу.” П: Это что Вы читаете? Г: Это я читаю показания Даниэля на суде. “...“Говорит Москва” написан в 60-61-м годах. “Человек из МИНАПа” - в 61-м году, “Искупление” - в 63-м году.” Тот первый рассказ, о котором я говорил, написан, по-видимому, раньше (то есть до 56-го). Он здесь не называется, поскольку не был опубликован. Он был напечатан только позже. Да, значит, 50-е годы. А вот последняя повесть - в 63-м. ...Он прочёл начало, и нам очень понравилось. Я не помню, кто тогда это слушал. Я и моя жена - это точно, а кто был ещё при этом чтении, я уже не знаю. Во всяком случае, ещё два-три человека. Это было в совершенно другом роде и другом качестве (чисто литературном), чем та повесть о полиглоте ХVIII века. Теперь этот рассказ - “В районном центре” - есть в его сборниках. Он сказал, что продолжит его и прочтёт нам. “Но когда?” - “Когда я закончу.” - “А когда?” - “Ну откуда я знаю...” Он берёт календарь, листает на несколько месяцев вперёд, выбирает какое-то число, смотрит, что за день. Вот, день рождения Добролюбова. Через некоторое время раздается его звонок: “Приходите”. “А что?” - “А день рождения Добролюбова.”. - “Что, родился?” - “Родился”. Ко дню рождения Добролюбова рассказ был закончен. Вот с этого он начал писать. Для печати это, разумеется, не предназначалось. Кому-то ещё читалось, но не многим. Вслух читалось, но не распространялось в рукописи. И вообще, большинство произведений того времени и его, и Синявского, я знал на слух, и они у меня до сих пор звучат в авторском исполнении, авторским голосом. П: Вы думаете, они всё так читали из этой серии своих нелегальных произведений? Г: Думаю, что от меня и от такого близкого круга, в который я тогда за несколько лет уже вошёл, это всё не пряталось. Никаких особенных секретов не было. Они бы выплыли потом, если бы были. Синявский не читал нам своё исследование о том, что такое социалистический реализм (это - текст другого жанра), но это тоже не было секретом: было известно, что он такую вещь написал. Во всяком случае, это не пряталась (от близких), и я прочёл её позже. П: А Вы сам этот круг узкий можете описать? Кто ещё входил в него? Г: Андрей и Юлий были очень разные люди, и их круги не совсем совпадали. Причём Синявский был человек, скорее, закрытый, а Даниэль - очень открытый человек. Ну не то чтобы он всем направо и налево говорил о своих нестандартных убеждениях, но он очень со многими общался, со многими дружил. Учился он в Харькове, окончил там университет, и у него было очень много харьковских друзей. Кто-то из них наезжал, ночевал. Я не могу назвать всех, потому что их было много. И степень близости была очень разная. Был вот этот харьковский круг. Из этого круга впоследствии приехали в Москву, жили в Москве и вошли в достаточно близкие отношения с его московскими друзьями физик Воронель и его жена Нинель. Это имя Вам знакомо, наверное. П: Угу. Г: Она была переводчица (неплохо переводила стихи). Переводы были хорошие, и многие из них печатались. Писала и сама стихи - тоже занятные, но от какой-то конкретной поэзии зависимые. (У неё был, на мой взгляд, какой-то переводческий тон в этом собственном творчестве. Она писала вроде бы в какой-либо уже существующей манере, притом в разной). Потом они переехали в Израиль и где-то там существуют. Там они достаточно известные деятели. Кто ещё? Харьковская поэтесса Марлена Рахлина, тоже из близких. Она осталась в Харькове и, изредка приезжая, тоже была членом круга. Она нам присылала потом свои книжки. Появлялся очень впоследствии известный Борис Чичибабин, читал свои стихи. Были и другие. Был кто-то из его фронтовых друзей (войну он прошёл солдатом, был ранен в руку). Уйдя из школы - казённого заведения, которое его, естественно, тяготила - он занимался поэтическими переводами. Стал довольно известным переводчиком, потом вступил в какой-то их не союз [писателей] (в союз [писателей] переводчиков брали только самых маститых), а был тогда какой-то такой... П: Профком литераторов? Г: Профком. Да, профком. Он вступил в профком. Точнее, это называлось «группком переводчиков». Он был очень общительный человек, и там у него появились знакомые, друзья. И он общался с Окуджавой, общался с Самойловым, с известным переводчиком Ваксмахером и с разными другими Круг его друзей отчетливо обозначился позднее, когда он был в лагере - те, кому Даниэль отвечал на письма. Он писал письма, которые адресовались всем сразу и каждому, поскольку ему были разрешены всего два письма в месяц. Получал же он множество писем, но сжёг их перед освобождением, опасаясь сложностей с вывозом: надо было их отдавать на какую-то проверку дополнительную. Бог знает, там разрешили бы или не разрешили, и он предпочёл от них просто избавиться. А письма, которые шли сюда, все сохранились: они размножались для чтения всем адресатам и изданы теперь толстым томом.
АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ Где-то в это же время начал писать и Синявский. У него был некоторый, вряд ли кому-нибудь сейчас известный, так сказать, подготовительный (утробный) период. Причём если у Даниэля это была повесть для советского издательства, то Синявский сразу начинал с каких-то сложных ходов. Я об этом знаю потому, что об этом рассказывала его жена. А с ней я был знаком значительно дольше, потому что она была искусствовед и училась в университете в одно время со мной. Так что я её знал ещё с университетских времён (она курса на два была моложе). Потом я с ней работал вместе в одном учреждении - реставрационных мастерских, и мы были приятелями там. И о том, что Синявский начал писать прозу, что-то пишет, я знал от неё, когда он сам ещё даже в ближнем кругу не рассказывал. А она любила похвастаться. (И до сих пор любит.) И она рассказывала о некоторых его литературных начинаниях, которые, видимо, не имели продолжения и были такими первыми пробами. Ну, например, было начало рассказа о том, как офицер просыпается и узнаёт (по телефону, кажется), что начинается конец света. И описывается, каков будет конец света: у человека на лбу появляются имена его любовниц, которые все могут прочесть. Этот офицер немного стыдится, что их у него всего три - Маша, Катя и МарьИванна (имён точно не помню). С этого должно было начинаться действие. Рассказа этого, вероятно, не существует, - то есть, по-видимому, он написан не был. Это замысел, который увял на каком-то раннем этапе. Что-то он пытался писать о временах Бориса Годунова - историческое, но с какими-то философскими подтекстами. Она тоже прочла какую-то страничку - красиво написанную, но даже сюжета толком я не знаю. И стихи он писал. Стихов его я не знаю, но знаю, что они были. Что-то я узнавал от Хмельницкого, который о каких-то его достаточно давних стихах знал, что-то запомнил и цитировал. Насколько я понимаю, первая законченная вещь Синявского была “Суд идёт”. Розанова (жена) приехала к нам и нам её прочла тайком от автора, - её распирало. Потом он это, так сказать, принял и одобрил. Другие вещи он уже сам читал в достаточно тесном кругу. Был рассказ, который называется “Пхенц” (о марсианине на Земле, живущем среди людей), который не был тогда напечатан, потому что слишком широко читался и поэтому не был послан для публикации (как и первый рассказ Даниэля). П: Значит, Вы думаете, что “Суд идёт” - это его первое законченное произведение? Г: Я так думаю. Других сведений у меня нет. Это - первая законченная, отправленная за границу и там напечатанная вещь. Даниэлю стало как-то тоже, может быть, немножко завидно и он тоже стал пользоваться этими каналами. И вот основные их доарестные вещи (кроме, насколько я знаю, одного рассказа Даниэля и одного рассказа Синявского, как раз первоначально читавшихся слишком широко, чтобы после этого печатать их под псевдонимами) были отправлены и напечатаны. Времена были относительно либеральные, но всё-таки все понимали, что это опасно. И в самом деле, в ГБ, видимо, довольно быстро узнали, кто - настоящие авторы. По-видимому, главный источник этих сведений был там, куда посылались рукописи - в тех западных издательствах, которые их печатали. Кто-то снимал их копии и пересылал сюда. Потому что Даниэль, как он потом говорил, видел в руках своего следователя фотокопию своего посланного экземпляра с явными следами авторской правки или какими-то своими пометками. П: Может, редакторской правки? (Как автор мог править свою рукопись где-то в Париже?) Г: Нет, авторской правки. То есть он свою руку узнал. А издательской правки никакой не было. С редактором он общаться не мог, потому что редакторы были там. Вряд ли там было принято править такие вещи - они просто печатались. П: Было ли Вам известно о том, что эти вещи печатаются на Западе, и если да, то каким образом они туда доставляются? Г: Подробностей я точно не знал. А было ли что-то известно? Да, кое-что было известно. Я сейчас, опять же, точно не вспомню, что и когда. По-моему, это большим секретом не было. Во всяком случае, для меня не было: когда начался скандал вокруг этих вещей, для меня это, безусловно, не было неожиданностью. Это было что-то ожидавшееся. Что-то нехорошее, возможное и, не дай Бог, чтобы это случилось. Но вот случилось. Как они отправляли, я сейчас знаю. Опять же, понимаете, это всё - какие-то кончики от очень длинных концов. Так что если всё рассказывать, я сегодня не кончу. П: А сегодня и не надо. Мы можем в другой день продолжить. Г: Но это всё давно напечатано. П: А это именно Ваши воспоминания были? Г: Нет, но я могу рассказать то, что я просто знаю об этом из других источников. П: Нет-нет-нет, из других источников не надо. Лучше, конечно, только то, чему свидетелем были Вы сами. Г: Ну я рассказал то, что знал сам, и достаточно близко.
СЕРГЕЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ Были достаточно сложные ситуации. Хмельницкий, который меня с ним познакомил, был моим приятелем, и мы с ним вместе долгое время работали. Именно он меня на эту работу устроил. (Я после окончании университета не мог найти службу из-за пятого пункта, - тогда это как раз было очень актуально). Итак, я работал несколько лет вместе с ним в архитектурных реставрационных мастерских. Вскоре там же стала работать и Розанова, которая именно в это время стала женой Синявского. Синявского в своё время вербовали в ГБ… П: Ну он сам в своих воспоминаниях написал о том, что должен был следить за этой дочкой французского военно-морского атташе Элен Замойской (через которую он потом как раз передавал на Запад свои произведения). Но он ей в этом сразу признался. Г: Да, Он признался ей, и она не считала, что он её как-то предавал. Напротив, оберегал от опасности. Собственно говоря, нужно было не столько следить за ней, сколько её спровоцировать как-то - чтобы выйти на её отца, который был французским дипломатом и который их по каким-то мотивам интересовал. Ну, и Синявский как-то выходил из этой ситуации. И, видимо, аналогичная ситуация была связана с Хмельницким. И он был потом, между прочим, свидетелем на суде. Хотя, я думаю, что друзей-то своих он не выдавал. Я думаю, что на Синявского он не доносил, хотя фигурировал на процессе, потому что был человек несдержанный и иногда рассказывал кое-что лишнее. Думаю, что не намеренно, а в силу своего характера, который я знаю хорошо, потому что мы с ним общались очень тесно и близко. Во всяком случае, он и обо мне мог многое рассказать, но, видимо, не рассказывал. Был такой эпизод, который фигурировал на суде... П: Прошу прощения: Вы участвовали в этом суде в том или ином качестве? Г: Нет. Я был снаружи, на улице. (В зал меня не пускали - как и многих, пришедших туда.) Был такой эпизод... Он, опять же, описан. (Вы найдёте его в литературе, если надо) Был день рождения известной переводчицы Елены Михайловны Закс, с дочерью которой дружил Даниэль. Там, на дне рождения, был Хмельницкий, и кто-то рассказывал сюжет повести “Говорит Москва”, уже напечатанной за границей. И за этим большим столом Хмельницкий сказал, что такой сюжет он подарил Юльке. Потом этот именно эпизод фигурировал на процессе, и Хмельницкий был вызван свидетелем. П: Кстати, упомянутые Вами Заксы имеют отношение к одному из редакторов “Нового мира” времён Твардовского? Г: Нет, никакого отношения к тому Заксу они, по-моему, не имеют. Это была довольно известная переводчица (с немецкого или английского - я не помню). Переводила художественную прозу. Дочь её (дочь и сейчас существует) тоже знала английский, хотя по специальности была химик. Работала в каком-то химическом институте переводчицей научных текстов. Другой очень похожий инцидент произошёл на моих глазах, но он не стал известен широко. Тогда тоже в случайной компании (у одного моего знакомого и его друзей, которых мы не знали) молодой итальянец, который здесь учился, рассказывал о повести “Суд идёт” некоего Абрама Третьего (так он перевёл псевдоним Терц) и пересказал один из эпизодов - о стукачах. И присутствующий там же Хмельницкий сказал что-то вроде того, что такой (или похожий) рассказ он слышал от Синявского Я, зная в чём дело (я знал текст), постарался на всякий случай этот разговор быстро увести в сторону. Но сказано это было. Однако дальше не пошло. Когда однажды, уже после процесса, Хмельницкий, о котором поговаривали, что он и посадил обоих, пришёл ко мне выяснять отношения, и я объяснял ему, как отношусь к этим слухам, я ему этот эпизод напомнил. Но он не вспомнил его. Так что это не была, видимо, сознательная провокация. П: А кстати, они после этого не провели соответствующую работу с Хмельницким? Г: Кто? П: Ну, например, Синявские. Г: Когда? После чего? После суда? П: После тех двух случаев, когда Хмельницкий фактически расшифровывал псевдонимы. Г: По-видимому, нет. Видите ли, была ещё такая история. То, что Хмельницкий - человек тёмный, ходили какие-то слухи. Синявский, связанный с делом Замойской, знал что-то конкретное, - эти дела как-то были связаны между собой. Розанова мне (тогда - достаточно близкому другу Хмельницкого) давала понять, что Хмельницкий, дескать, стукач. Я говорил: “Ну хорошо, - что? Факты!” Фактов она рассказать не может. Факты они тогда скрывали, потому что были связаны с делом Замойской, которое не раскрывалось со стороны Синявского. Так я потом понял. А тогда просто... Ну вот она секретничает. Я знаю, что это - мой друг, и голословные обвинения я принять не могу. Я поверю, когда будут содержательные обвинения, что-то конкретное. Позднее (это было уже в 64-м году) Хмельницкий был разоблачён публично. Он защищал диссертацию в Институте искусствознания, и на защите встал человек, который сказал, что диссертант тогда-то написал донос и посадил его и его друга. Ну вот, на защите произошло такое событие. Причём... Я не помню, откуда я знаю, и кто это мне говорил (может быть, сам пострадавший; наверное, он), что они Хмельницкого предупреждали, что если он будет защищать диссертацию, они выступят. Но он всё же решился. В результате получил искомую степень кандидат архитектуры (или искусствознания - я не помню), но вскоре принужден был уехать из Москвы. Диссертация его была по архитектуре Средней Азии, туда он и убежал. П: Я слышал эту историю. Тогда, насколько я помню, о сталинских временах речь шла. Г: Да, конечно. Я не был на защите (меня не было тогда в Москве), но я как раз тогда первый и единственный раз попал в командировку в Среднюю Азию, и Хмельницкий меня напутствовал. Я ехал в город, где у него были друзья. (Я ехал к его друзьям.) А за это самое время произошла вот такая история. Вернувшись из командировки, я пошёл к обвинившему его человеку на работу, поговорил с ним, желая выяснить какие-то обстоятельства, и я ему, в общем, поверил. Нам казалось, что стукачам в нашем кругу не место. После этого было коллективное выяснение отношений с Хмельницким, где значительное количество его друзей выясняло отношения по этому поводу. И отношения были прерваны. Тогда немного осталось людей в Москве, продолжавших с ним поддерживать дружбу. И он вскоре оставил работу в Москве и уехал работать в Среднюю Азию, из которой впоследствии, когда появилась возможность, уехал в Германию, где доживал и умер несколько лет назад. П: Мне интересны обстоятельства вот этого выяснения отношений. Г: В выяснении отношений я участвовал. П: Где это происходило? Г: У Хмельницкого дома. Пришло несколько друзей, договорившись с ним по телефону. Он просил придти попозже, когда дети будут спать. Примерно понятно было, о чём будет идти речь. Речь шла... Естественно, что вспомнить конкретно разговор я сейчас не могу, но разговор понятно был о чём. П: Что-то типа суда чести, да? Г: Да. Мы хотели понять, что произошло, почему и как. Он, в общем, как-то выкручивался и оправдывался, полупризнавался... Так сказать, что что-то было, что он чего-то не знал, с кем-то делился, не подозревая, что тот - стукач. Это не было правдой, конечно. Он сам там доносил на тех двоих. Но на этих, по-видимому, нет. Хотя, впрочем, у меня есть подозрение, что он продолжал общаться с той организацией, и какие-то поручения от неё получал. Но не связанные с его друзьями из нашего круга, а иные поручения. Он общался с какими-то иностранцами, и я помню, что был какой-то такой коммерсант (французский, по-моему), с которым он имел дела, получал от него какие-то подарочки… По-видимому, совершенно неинтересный для него и для таких, как мы, был этот человек. И его общение с этим человеком для меня подозрительно. Догадываюсь, что это было по заданию. Конечно, я это потом подозревал, когда стало уже известно, что что-то подобное бывало. Разоблачение Хмельницкого как-то уже назревало и до его защиты. Незадолго до неё Воронель прибежал и сказал, что, вот, выяснилось, что Хмельницкий - стукач. Опять же - никаких подробностей он не знал, и я отнёсся к этому так же, как когда об этом говорила Марья Синявская - что нужно знать что-то конкретное. Чтобы предъявить другу такие обвинения, мне надо знать, о чём речь, что именно произошло. Ну вот, на защите это уже выяснилось. Появились люди, которые сами пострадали и которые могли свидетельствовать. И тут уже ситуация изменилась. И поэтому выяснять отношения с Хмельницким уже не нужно было - они уже были выяснены. Я знаю, что Синявский сперва читал какие-то свои вещи относительно широко... Довольно широко, это значит - десятку людей. Не то, чтобы шире, но всё-таки. Там, восемь человек друзей, десять человек друзей. Людей, которым он верил. На какие-то прослушивания (кажется, кроме первого, а может быть, и на первое уже) он не звал Хмельницкого и просил (меня, в частности, - зная, что я дружу) Хмельницкому не говорить, потому что он будет претендовать на то, что он тоже хочет послушать. (Он был человек любопытный. И в самом деле, узнав от кого-то о таком чтении, он допытывался у меня, что там было. Я не сказал. Ответил, что это не мой секрет.) Синявский Хмельницкому читать не хотел, не доверял ему. Так что суть дела выявлялась постепенно. П: А каким образом Хмельницкий мог узнать содержание рассказов Синявского, если тот не приглашал его на чтения своих произведений? Г: Он их, видимо, и не знал. Знакомство его с эпизодом из повести “Суд идет”, о котором я говорил, могло произойти раньше, когда Андрей меньше скрытничал, ещё не думая отсылать повесть за рубеж.
СУД ИДЁТ П: Но продолжайте, пожалуйста. Г: Тем временем атмосфера как-то сгущалась, становилась тревожной. Пока вся эта вольная проза писалась и читалась друзьям, было весело. Но напечатанная за границей под псевдонимами, она становилась опасной. И авторы, и те, кто был в курсе дела, это всё сильнее чувствовали. Политическая обстановка менялась, Хрущёва сместили. И вскоре после падения Хрущёва (полгода, по-моему, не прошло) оба автора были арестованы. Я узнал об аресте Синявского от моей соседки, приятельницы Розановой, тоже искусствоведа. В тот же день ко мне на работу зашла Розанова. (Я работал тогда в журнале “Декоративное искусство”.) Я был тогда, кажется, один в комнате. Она сказала: “Андрея взяли”. Я сказал: “Я знаю”. Она была как-то так несколько ошарашена тем, что я знаю это не от неё. Потом мы ходили по улице, беседовали. Она временами оглядывалась: не ходят ли за нами? Я говорю: “Не оглядывайся. Неважно. Не имеет значения”. Даниэля арестовали через несколько дней. Какие-то знакомые быстро отпали. Какие-то остались, - тот круг друзей, который сохранил с ними дружбу, был довольно велик. Хотя были два человека, которые оказались свидетелями обвинения на суде: один был ещё фронтовой приятель Даниэля, а второй - учёный-медик (не знаю, откуда они знакомы). Ну что ещё рассказать? Потом вот началась кампания. Газетная кампания. П: А она разве ещё не во время суда началась? Г: Нет, кампания началась раньше. Суд готовился... П: А, Вы имеете в виду, что после ареста? Г: После ареста, конечно. Началась после ареста. В начале 66-го года в “Известиях” появилась статья “Перевертыши”. Написал известный тогда писатель Ерёмин. (Не из хороших писателей, но из казённых литераторов. Довольно известный.) Уже было выяснено, кто авторы, и там они поносились всеми нехорошими словами. Через некоторое время появилась вторая статья - в “Литературной газете”. Автором была довольно известная тогда критикесса Зоя Кедрина. Статья называлась “Наследники Смердякова”. П: В “Известиях” я помню статью юридического обозревателя этой газеты Юрия Феофанова. Или это был уже репортаж из зала суда? Г: Феофанов писал с процесса. Он был заведующим отделом права в “Известиях” и писал репортажи с процесса - как полагается, на всю катушку. Поскольку процесс шёл несколько дней, его тексты появлялись день за днем. Ну а после статей широким потоком пошли письма в редакцию. Ну и вот тогда несколько человек порознь написали письма в эти же редакции. Я писал в редакции, кто-то ещё писал. Писал Юрий Левин - друг дома (даниэлевского, главным образом). Я не знаю, какие были умыслы у других авторов (их было немного, впрочем)... Мне как-то так казалось, что нужно написать для того, чтобы в потоке писем были не только письма враждебного содержания. На публикацию, естественно, рассчитывать не было никаких оснований, а вот дать понять, что этот самый поток не выражает всеобщего мнения, я считал нужным. Поэтому было тогда написано такое письмо. К процессу я не привлекался. Почему, я не знаю. Хотя в обоих домах я бывал (и я, и моя жена) и крамольные произведения знал, слушал - иногда без большой компании, а иногда среди других слушателей. То есть моё имя ТУДА могло попасть. Но меня ТУДА не вызывали по этому делу. Может быть, потому, что в последнее перед тем время я не общался с Синявскими. А не общался, кстати, из-за той вот самой истории с рассказом итальянца про “Суд идёт”. Я в гостях у Даниэля рассказал эту историю Розановой, и хотя я в ней виноват не был, но почему-то она обиделась на меня. То ли что я не прибежал сразу к ней, а дожидался случайной встречи, то ли ещё почему-то, но она обиделась (ей это, вообще-то, было свойственно) и прекратила со мной общаться. Что бывало несколько раз по разным поводам. И в это время (как раз вот перед арестом) я не бывал в их доме. П: Вы упомянули такой интересный сюжет, как выражение гражданами своего несогласия с судом над Синявским и Даниэлем. И Вы наверняка были свидетелем того, как была организована петиционная компания в их защиту и проведена (по инициативе Александра Сергеевича Есенина-Вольпина) первая такого рода демонстрация. Г: Да, была демонстрация, о которой я знаю по слухам. (Я в ней не участвовал.) П: Давайте по порядку: каким образом организовывались коллективные письма? Г: Коллективных писем по поводу суда я не помню. П: Вспоминается такой относящийся к этому лозунг: “Требуем гласности в деле Синявского и Даниэля!” Г: Ну, вообще-то, суд считался гласным. Хотя в зал не пускали. Там “не было мест”, - их заняли свои. Присутствовали родственники, печатались, как Вы знаете, отчёты. Какие отчёты, Вы тоже знаете. Так что суд был гласным, и требование гласности суда было бессмысленным. На него ответили бы: да всё в порядке с гласностью! П: Этот лозунг выдвигался, может быть, ещё перед судом? Г: Да нет... Впрочем, не знаю. Это надо взять “Белую книгу” и посмотреть. Там были собраны все материалы, которые были тогда известны в диссидентском кругу. А вот потом была, действительно, диссидентская компания, которая была развязана этим делом. Потому что первые, в основном, индивидуальные письма были, действительно, по этому делу. А потом пошла масса коллективных писем по разным поводам - требование гласности, защита тех или иных определённых людей и тому подобное. П: А про ту кампанию Вы что-то помните? Как готовились те коллективные письма? Г: Ну как? Кто-то обращался к своим знакомым, которые, как он считал, имели основания подписать такое письмо, приходил и давал письма на подпись. П: Фамилий сейчас не вспомните? Г: Нет. Пожалуй, сейчас нет. Очень много было людей. Было много и организаторов, и тех людей, которые подписывали эти письма. Был такой всплеск коллективного либерализма, который потушили, впрочем, очень быстро. По-моему, года полтора максимум это продолжалось. П: Вы именно тогда впервые стали подписантом коллективных писем? Г: Да. Очевидно, именно тогда. П: Про эти протесты больше ничего не вспомните? Г: Конкретного, пожалуй, нет. П: Тогда расскажите о том, какие петиции Вы подписывали после дела Синявского/Даниэля. Г: Честно говоря, не помню. Много. И по разным поводам. Тогда это стало обыденным Просто некто знакомый или полузнакомый подходил и говорил: “Мы пишем письмо ТУДА. Подпишешь?” - “Дай прочту.” Просматривал и подписывал. Я делал это легко, потому что уже написал ранее своё письмо с протестом против газетной кампании травли Синявского и Даниэля. Я считал, что личный протест - это более ответственный и рискованный поступок. Но реакции не было, и по этому поводу мне никто никогда ни слова не сказал. А вот когда начались подписи под разными коллективными бумажками (достаточно случайные), то тут уже были кой-какие результаты - меня стали выгонять с работы. Но так до конца и не выгнали, потому что они хотели, чтобы я сам ушёл - чтобы они были чистенькие, а я ушёл сам, и всё: “Вы у нас недавно работаете, а институт у нас может пострадать”. Умоляли помочь институту. (Я тогда перешёл из журнала в Институт истории и теории архитектуры.) Я сказал: “Нет. Знаете что? Я сам не уйду. Если Вы считаете, что я поступил нехорошо, Вы можете меня, конечно, уволить - имеете на это право. Но зачем же я буду сам-то уходить, сам себя наказывать?” Договорились, что они меня понизят в должности, снизят оклад. Разговаривал я с парторгом - своим коллегой, уважаемым человеком. Мне он казался более или менее “своим”, и потому я на него обиделся и с ним некоторое время не разговаривал. Он даже удивился, считал, что всё было нормально. ТАМ понимали дело так: письмо с каким-то количеством подписей - это коллективное действие. А если какой-то чудак от себя написал - ну и чёрт с ним. То есть там, где человек считал, что действует в толпе и, в общем, ни за что уже не отвечает, там-то как раз и начиналась ответственность с точки зрения начальства. Но что это были за письма, я не помню. Единственный случай, когда меня вызывали в соответствующие органы... Было написано письмо в защиту Толи Марченко - по поводу какого-то из эпизодов его ареста или высылки (не помню, что именно в этот момент происходило), которое я, естественно, подписал, которое родственница Ларисы Богораз Ирина Белгородская (с которой я тогда и не был знаком) должна была куда-то отправить и которое эта дурёха забыла в такси. После чего таксист передал это куда следует, и было следственное дело, по которому вызывали всех, кто поставил под этим письмом подпись. И меня в том числе. Был забавный случай. Мне дали адрес в Лефортово. Оказалось, что следователь принимает в тюрьме - в одном из кабинетов следственной тюрьмы. При следователе там присутствовал ещё какой-то господин почти без речей, который лишь иногда вмешивался. Я как-то так не собрался, не сообразил, постеснялся спросить: “Так, а это кто такой?” Потому что надо было спросить. Как я понимаю, это был господин из собственно КГБ. Следствие ведут не они, а гражданская организация, но он там присутствовал и наблюдал. Они выясняли, что к чему, что я знаю о Толе, почему я подписал письмо, убеждали меня, что он - преступник, что он, вообще-то, всё врет, что всё, что им написано - это неправда. Собственно, тем дело и кончилось. Но затем был короткий эпизод. Когда меня оттуда выпускали, следователь - женщина, которая вела допрос и протокол - сказала мне в коридоре: “Подождите, я сейчас ключ отдам”, и открыла соседнюю дверь. За ней я увидел Литвинова, читавшего за столом... П: Павла? Г: Павла, конечно, да. Он тогда был в тюрьме, шло следствие по делу о демонстрации на Красной площади против оккупации Чехословакии, и они мне его, я думаю, сознательно показали. П: А, вы оба увидели друг друга? Г: Да, и он меня увидел. Он там сидел в кабинете и, видимо, знакомился со своим делом. Я думаю, что она знала, что он там сидит, и сознательно мне показала его, чтобы я рассказал, что, вот, я видел Пашку Литвинова, что он - в порядке. (Потому что ходили слухи, что с ними там плохо обращаются: бьют и тому подобное.) И он бодро мне помахал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ П: Вы рассказывали интереснейшую вещь про лагерные письма Даниэля. Я думаю, что это сюжет тоже полезно было бы записать. Г: Что они распространялись среди адресатов, которых было много? Ну, это должно быть описано в предисловии к тóму этих писем, которые изданы и откомментированы вдовой и сыном. П: Но мне интересно, что Вы об этом помните - об обстоятельствах, о персоналиях... Г: Персоналии - они есть там в списке упоминаемых лиц. Персоналии были друзья, которые считали возможным ему писать. Кроме меня и моей жены это были, кажется, Воронели, Алёна Закс. По-моему, Шрагины писали. (Я не помню точно.) Кто ещё там был? Друзья дома. Все - друзья дома. Корреспондентов оказалось немало. Он мог получать много писем, но посылать лишь два письма в месяц и только в семью. Поэтому он в каждом письме отвечал всем своим корреспондентам, и они потом ходили среди них по рукам, а также перепечатывались для того, чтобы их можно было распространять. Жена моя этим занималась часто - вот на этой машинке, которая и сейчас ещё существует (показывает на стоящую рядом машинку, - АП). П: Я смотрю, это - “Эрика” пресловутая! Г: “Эрика”, да. Которая, как известно, берёт четыре копии. ...И не только она занималась, по-видимому. Какие-то письма, какие-то копии нужно было посылать в Харьков. Потому что харьковчане некоторые с ним переписывались. Та же самая Марлена Рахлина - харьковская поэтесса и приятельница. И другие там были ещё люди. (Я не помню. Это легко восстановить по изданному сборнику его писем.) В результате письма, каждое из которых писалось не впритык перед отправкой, но на протяжении двух недель, были толстые. Поскольку объём не был ограничен, он за две недели присылал довольно солидную пачку исписанной бумаги. Как я говорил, письма к нему в лагерь не сохранились, - он их уничтожил перед выходом, опасаясь сложностей при вывозе. А его ответы сохранились и изданы. Синявский, в отличие от него, писем получать не хотел. С ним переписывалась только жена. Но это было его решение, а не наше. Моя книжка тогда вышла, я послал ему, и он на неё как-то откликнулся. Но, в общем, он переписываться не хотел ни с кем, кроме жены. Она сейчас тоже издала его письма - три тома. Ну немножко иначе, чем изданы даниэлевские - что-то она там сокращала. Даниэлевские же изданы полностью. Ну что ещё? Были ссоры между жёнами. Потому что тактика поведения у них была разная. Синявская - человек авторитарный - требовала, чтобы все было по её. Она вела какие-то интриги с ГБ, пыталась их обдурить. Считала, что в какой-то степени это получается. Вероятно, несколько меньше, чем ей это казалось. Но, тем не менее, это было. И поссорилась с Ларисой Богораз на этом. Очень прочно поссорилась и до смерти не простила. Что ещё было?.. П: Как развивались Ваши отношения с этими двумя семьями, пока мужья находились в заключении? Г: Я Вам сказал, что семьи были вроде в ссоре. А я ни с той, ни с другой стороной ссориться не хотел принципиально. Просто не хотел. И не ссорился. И искал способ обойти все эти неприятности: выслушивая всё, что мне говорилось, вёл себя по-своему, то есть продолжал общаться с обеими сторонами. Собственно, и остался другом обеих сторон. Хотя, можно сказать, что после возвращения Синявского меня к нему долго не допускали. П: Марья Васильевна? Г: Марья Васильевна. Был такой смешной эпизод, когда я с ним встретился (с ними обоими) в книжном магазине на Новом Арбате. Он ко мне подошёл, мы разговаривали, а она как-то ходила вокруг нас кругами. То есть это отлучение было, видимо, не его инициативой, а именно её. Это в её характере. П: Значит, после его выхода из заключения Вы с ним до этого случая так и не увиделись? Г: Нет. Это тогда был единственный такой эпизод. А вскоре они уехали. П: Нет, я имею в виду - сразу после выхода из лагеря. Г: Сразу после выхода я с ним не увиделся. Вот до его отъезда, по-моему, только эта случайная встреча в книжном магазине и была. А потом я с ним виделся, когда он приезжал сюда, когда стало можно приехать. Первый раз он приехал после смерти Даниэля, и потом ещё пару раз приезжал. И тут я с ним виделся. П: С Синявским Вы после его отъезда за границу отношений не поддерживали? Г: Активных, во всяком случае, нет. Потом, когда они стали приезжать сюда, я с ним встречался. И потом, уже после смерти Андрея, я месяц жил у Марии Васильевны в Фонтене-о-Роз. П: Это, значит, уже 90-е годы? Г: Это - двухтысячные. П: А с семейством Даниэлей отношения были более тесные? Г: С семейством Даниэлей отношения были более открытые, - просто ни у кого такого характера, чтобы “стань на мою сторону, иначе я с тобой не вожусь”, просто не было. Это были люди другого характера. Когда Даниэль должен был вернуться из Владимирской тюрьмы (уже не из лагеря, а из тюрьмы), я поехал в Калугу, куда он должен был приехать - с тем, чтобы подготовить ему жильё. Потыкался, но там ничего толком не нашёл. Я поговорил с Москвой, и мне сказали, что есть его бывшая школьная ученица (она работает в городском архиве), и её нужно найти и поговорить с ней. Я её нашёл, поговорил. Она сказала: “Да-да, конечно - пусть приезжает и живёт у нас”. П: Это - в Калуге? Г: В Калуге. Когда он приехал, я был там, в Калуге, встречал его. Он приехал в гостиницу. (Его курировала госбезопасность, и ему сразу дали номер в гостинице.) И он к этим людям не пошёл. Я пошёл к ним, сказал: так вот и так, он в гостинице, ночевать у него есть где, и он завтра к вам придёт. Потом он получил в Калуге комнату в квартире. В соседней комнате поселили двух молодых официантов из ресторана - таких довольно симпатичных ребят, у которых, тем не менее, были какие-то задания от начальства. (Они эту квартиру должны были отработать.) Они сказали ему, что имеют некоторые поручения, - ребята были хорошие. Ну и он какое-то время должен был жить в Калуге. Потом уже смог вернуться в Москву. П: Расскажите, как развивались Ваши отношения с Юлием Даниэлем до его смерти.... Г: Я наезжал к нему пару раз в Калугу... П: ...и, вообще, что Вы помните о его тогдашнем образе жизни. Г: Разумеется, это был грустный достаточно образ жизни. Он жил в Калуге, жил в этой квартирке на Московском шоссе (так, кажется, улица называлась). Такая окраина калужская, типичный хрущевский район. Он говорил иронически, что живёт, как и прежде, на той же улице, только подальше от центра. То есть он жил до ареста в Москве на Ленинском проспекте, которым начинается Калужская дорога. Из Калуги нетрудно было наезжать тайком в Москву. Но за ним послеживали, и он получал за это нагоняй. Жил довольно грустно. Ему разрешали переводить стихи, но печатать - под псевдонимом (уже другим, конечно – “Ю. Петров”). Он пытался что-то писать дальше своё, но получалось это, по-видимому, не очень. Какие-то были у него в это время сложности внутреннего порядка с литературой. Хотя кое-что было потом напечатано - наиболее полно вот в этой недавней последней книжке. Это что-то типа лагерных воспоминаний, довольно отрывочных. Во что-либо целое это так и не сложилось, мне кажется. Стихи он писал только в тюрьме и в лагере, а выйдя, перестал писать стихи. Очевидно, это не было его постоянной потребностью, а, скорее, способом преодолевать свалившиеся на него тяготы тюрьмы и лагеря. Но на их качестве это, я думаю, не отразилось. Но стихи он переводил. Что-то печаталось. После этого он довольно быстро заболел. Довольно тяжелый случай - мозговая какая-то болезнь, психическая, может быть. Вскоре, видимо, уже не мог работать - во всяком случае, полноценно. П: Не понял: где не мог работать? Г: Заниматься литературой ему стало довольно тяжело и довольно скоро, по-видимому. П: Я уже не помню, каким образом он в этот период на жизнь зарабатывал. Г: Переводами главным образом. П: А, то есть всё-таки только литературной работой? Г: Да, литературной работой он занимался. Переводами. П: То есть ни на какой службе не состоял? Г: Нет, на службе не состоял. В Калуге его определили на какой-то завод, на какую-то техническую должность, я не знаю. По-моему, он там не долго проработал. П: Собственно говоря, по выходу из заключения он должен был уже по возрасту выйти на пенсию. Г: Наверное, какая-то пенсия у него была. Тем более, что он всё-таки был фронтовик. Но я не знаю, как у него обстояли дела с пенсионным ведомством после возвращения из лагеря. П: А Ваши отношения с Ларисой Иосифовной и Александром Даниэлем продолжались и всё последующее время? Г: Да, тогда и потом были самые дружеские отношения. Это был один из самых близких мне домов в Москве, и она, в частности - один из самых близких людей. До конца. С того времени, как познакомились - когда Даниэли переехали в Москву после Людиново. Видимо, ещё до ареста у Даниэля осложнились отношения с женой. Какое-то время она работала вне Москвы, в Новосибирске. В сентябре 65-го года он приехал туда, но как раз там его вызвали в КГБ, потребовали вернуться домой и уже во Внукове арестовали. Поэтому восстановление семьи не могло состояться. Без него Лара вышла замуж за другого человека, причём за человека, который пришёл из его лагеря, из его бригады. Это - Анатолий Марченко, с которым я тоже тут познакомился, когда он приехал первый раз. И потом общался с ним довольно много - в доме на Ленинском и в тех загородных домах, где они пытались найти пристанище. Так было сначала в Тарусе, потом в Карабаново под Александровом, где он пытался построить дом. Там была полуразваленная избушка, которую он перестраивал более капитально. Имел на это разрешение из центра, а местные власти препятствовали. И в конце концов после его ареста сломали эту самую начатую стройку. Я фотографировал его за работой на стройке с лопатой в руках. Потом я по просьбе Лары написал опубликованное предисловие к одному из его изданий П: Значит, Вам довелось и с Анатолием Тихоновичем пообщаться? Г: Да, с Анатолием Тихоновичем я тоже общался, бывал в их доме. Знаете, это был очень своеобразный человек - необычайной душевной крепости и силы. Хотя, вроде бы, и не фанатик. Потому что ему, вообще-то, на свободе хотелось жить нормальной жизнью, а ему сильно мешали. Хотя приехал с намерением написать книгу, которую он и написал с помощью Ларисы и московских друзей (потому что, естественно, он не был вполне подготовлен к литературный деятельности). Он и сам об этом пишет довольно подробно. П: Вы имеете в виду первую книгу - “Мои показания”? Г: “Мои показания”, да - первую книгу. Это была такая вот идея фикс ещё в лагере - что он вернётся и напишет. Ему помогали. Помогали сделать её более объективной - какие-то резкие выражения там сокращались, а основной костяк сохранялся и усиливался. П: Он пишет об этом в своих последующих воспоминаниях. Г: Да, он об этом сам пишет достаточно откровенно. Кто помогал? В этом, естественно, участвовала Лариса. По-моему, участвовал Борис Шрагин - философ, эстетик, тоже эмигрант (умер в Америке). Вдова его Наташа Садомская вернулась и сейчас в Москве П: Я её уже интервьюировал. Г: Это - тоже мои друзья. П: В заключение этой линии в нашей беседе хочу попросить Вас рассказать об истории становления личности моего коллеги и доброго знакомого Александра Даниэля, которого я считаю крупнейшим специалистом по Самиздату. Поскольку его становление происходило на Ваших глазах, было бы хорошо, если бы Вы вспомнили, в какой атмосфере оно происходило и каким образом. Тем более, что Вы знали его с трёхлетнего возраста. Г: Да, да. Мы жили близко от зоопарка - в переулке рядом с американским посольством (у родителей моей жены). У нас там была комнатка. Юлий бывал у нас. И вот однажды он появился с трёхлетним сыном по дороге из зоопарка. Это было первое знакомство. Ну мальчик как мальчик. Учился в знаменитой математической школе (2-й, кажется), где, кстати, среди преподавателей был ещё один друг дома - Анатолий Якобсон. Тоже известный диссидент, один из авторов “Хроники...”, тоже мой друг (наш друг, друг дома). Саню сделала диссидентом история отца - арест и всё прочее. Это было, так сказать, его прямое наследие. Можно сказать, он автоматически стал продолжателем дела. Естественно, он многое знал. Во всяком случае, он вырос в этом кругу, и ему не надо было в него входить. Первоначально, разумеется, не всё знал. Где-то он рассказывал, что очень удивился, что вещи Терца написаны Синявским. В его образ этого друга дома такое как-то не входило. Но об отцовском тайном писательстве он узнал ещё до ареста. 24 июля 2009 г. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



