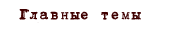
 |
|
Моя основная вина была в том, что я писала письма
- Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, сначала о себе. - Начнем с того, что я родилась 9 апреля 1935 года в г. Москве, в Денежном переулке, дом 24. В свое время это был Кремлевской роддом. Жили мы на Остоженке, около Обыденского храма. Несмотря на то, что мои родители были партийными: папа вообще был первым пионером, а мама была комсомолка уж по крайней мере, меня потихоньку от них крестила нянька, которую, это я совсем позднее узнала, звали Кристина. Теперь я за нее молюсь в этом храме. Я об этом не знала и когда в 17 лет приехала в деревню, где была роскошная, в стиле классицизма, церковь, я говорю своей бабушке, отчима матери: «А я хочу, бабенька, креститься». «Ну и крестись». И я крестилась там. А мама была геолог, ее никогда летом не было в Москве. Я когда ей рассказала, она сказала: «Ну и дура, ты была крещеная». С тех пор отец Михаил говорит: «Я знаю, почему у тебя столько энергии, ты дважды крещеная». Мама с папой разошлись в 1938 году, когда мне было 3 года. Тогда разводили запросто. Они чуть ли не в милицию пошли и разошлись. Когда шли обратно, помирились и жили до 41-го года, пока папу не призвали на фронт. Разведенные жили, в комнате в Савельевском переулке. Когда он вернулся, я девочка была, но обратила внимание, что они за руку друг с другом поздоровались, пожали руки, а не обнялись, не поцеловались. Для меня это так странно было, но я ничего не стала спрашивать. А потом мама сказала, что они в письмах договорились, что они разводятся все-таки. В 47-м году папе предложили поехать в Китай, начальником аэропорта, в северную какую-то провинцию, Син Дзянь, что ли… Оказывается, они помогали Красному Китаю. Я этого ничего не знала, но он предложил маме: «Нина, ты же географ, тебе же интересно будет в другую страну поехать». Мама сказала категорически «нет». «Тогда ты кого мне посоветуешь?». И она посоветовала ему одну женщину, и он уехал с ней. И потом у них родился сначала мальчик, которого, как папа считает, китайцы отравили токсической дизентерией за то, что [отец] занимался незаконной переброской оружия с этого аэродрома. А потом родилась девочка, это уже позднее, Алена, которая жива-здорова и которая является моей единокровной сестрой. Мне было 6 лет, когда началась война. Но я это прекрасно помню. Мы в этот момент находились в доме отдыха от МГУ (мама там училась и потом работала). А я там серьезно заболела тропической малярией, и поэтому, когда началась война, я была в лазарете, но всех детей быстренько собрали и отправили в Москву. Мы ехали другой дорогой какой-то, время от времени уже бомбили. И мы не уезжали из Москвы, даже когда все бежали в октябре. Пока папа не ушел на фронт, мама и папа дежурили на крыше. Днем, когда их не было (детского сада тогда уже не было, естественно), мы играли где-нибудь во дворе. Когда начиналась тревога, кто-нибудь выглядывал в окно и кричал: «А ну-ка сейчас же в бомбоубежище!». Пойдем мы в бомбоубежище! Там темно и противно. Мы забирались в комнату и там преспокойненько играли и не думали совершенно ни о чем. Дети, во-первых: ну летают, ну и что, какое нам дело до них. Но – в мозжечке где-то глубоко-глубоко это, вероятно, осталось. Когда в 1972 году (как раз тогда годик был младшему сыну Кириллу) мы снимали дачу около аэропорта Быково. Там один звук был, от которого, когда я его слышала, у меня какая-то тревога поднималась. Я не понимала в чем дело. А звук, я потом поняла, был немецких самолетов. Они гудели не как наши «у-у-у», ровным звуком, а «Уу-Уу». Значит, все-таки тревога где-то в глубине осталась от этого звука. Потом меня увезли в эвакуацию, но мы достаточно быстро вернулись. Мы были в Средней Азии. Мама непоседа, и не такой человек, который может быть невостребованным, она очень быстро вернулась в Москву, а я с бабушкой снова поехала в эвакуацию, но уже не в Среднюю Азию. На этот раз это был город Темников, где моя мамина младшая сестра и моя тетка [жила], после 10-летки и первого курса консерватории. У бабушки было четыре дочери. Она всем дала высшее образование, две окончили консерваторию, моя мама – МГУ, она географ, но потом стала геологом, и одна дочь Иняз кончила. Младшая, Вера, такая была способная к языкам, что уже знала немецкий и преподавала в школе. Десятиклассники тогда были старше нее. Но я бы об этом не рассказывала, если бы ее не вызвали и не сделали переводчицей в Явасе.[1] В 1943 году уже был ЯВАСИЛ, лагерь для немецких военнопленных. И она туда уехала, а мы с бабушкой остались в Темникове. Зима была очень голодная и холодная. Веруська как-то сумела меня сунуть в детский сад, так как я была дочерью офицера действующей армии. И вот это счастье от одной ложки овсяной каши я помню до сих пор. Что меня поражало, это то, что она была густая. Во взрослом состоянии я думала: жидкую бы сделали и уже побольше бы можно было. А нам давали целую большую оловянную ложку этой каши. Но когда Веруська приехала навестить нас зимой и увидела, что мы без дров, холодные и голодные, она, не спросив у начальства, договорилась с какими-то розвальнями, положила нас и отвезла к себе в Явас. Там находились немцы, в первую очередь, итальянцы, румыны. Ей был закатан большой скандал, как она могла без разрешения привезти родственников. Но опять же, они заткнулись, когда узнали, что я дочь офицера. И, что меня тоже там поражало, немецким пленным давали по пол литра молока. Это была такая щедрость! Потом, в современном мире, мне рассказали, что «Красный крест» за них платил. При чем сначала ни Веруся, ни бабушка не получали, тем более, иждевенец. А потом мы начали получать по пол литра молока, и жизнь началась качественно совсем другая. И там, в этом лагере, я помню итальянцев расконвоированных, которые топили баню и вечно итальянские песни пели, сидя у барака. Немцев расконвоированных я не помню. Был потом какой-то страшный скандал, когда два немца в побег ушли. Но потом их очень быстренько поймали… Почему я об этом говорю – потому что в 44 году (мы в 43 вернулись в Москву поздней осенью), Верусю посадили, ей приписывали, что она помогала им в этом побеге. А вообще Верусе приписывали заговор против Берии. Она однажды шла по Лубянке, мимо ГБ, - а мы жили прямо напротив ЦК партии, тогда проезд Серова, дом 19, - и вдруг образовался живой коридор, подъехала машина, прошел Берия. И она говорила, что видела его совсем близко. А когда она пришла к знакомым после этой встречи, она сказала: «Видела Берию, была бы бомба – так бы и бросила в него». Этого было достаточно, чтобы ей приписать террористический акт. - Кто-то же донес еще. - Вот это очень важный и интересный вопрос. В этой компании был ее тогдашний приятель Саша Локшин. В наше время вышла книжка его сына. Он композитор, они в консерватории вместе учились. И в этой книжке доказывается, что, например, на Алика Вольпина и доносить-то особенно не надо было, он и так кричал о своих взглядах. Но один факт говорил очень против него. Во-первых, он распространил про Веруську слух, что это она стучит – это излюбленная тактика. Потом, когда Веруська села, они почему-то добивались ее дневников. И все время искали эти дневники. А дневники лежали в определенном месте, о чем знала ее старшая сестра Галя. Только она одна знала, что Локшин дружит с Верусей, и она решила, самое верное дело, отдать ему эти дневники. Она же ничего не знала. Помню только, бабушка всегда терпеть не могла этого Шурку, у него были рачьи глаза. Она отдала дневники Шурке. А Шурка их отнес в ГБ. Как мы узнали это? Веруська вообще часто вещие сны видела. После очередного ночного допроса – ее ночью допрашивали, а днем не давали спать – чтобы дать ей возможность выспаться, Бухарина брала ее голову к себе на колени, делая вид, что искали вшей. В глазок посмотрят – ну ищет и все. А Веруська таким образом высыпалась у нее на коленях. И в один из снов она увидела свои дневники в столе у следователя. И когда в очередную ночь он ее допрашивает: «Где Ваши дневники?», она говорит: «У вас в столе». Он как стукнет! «Кто Вам сказал?». «Никто не сказал, я во сне видела». Он открыл, а там голубенькая ленточка, так что она точно узнала, что это дневники. И здесь уж его сын никак не может отпираться, что это дело не его отца. Бог им судья. Справедление не всегда, говорят, бывает правильно, но я до сих пор возмущаюсь тем, что Шурку стали считать порядочным человеком. А Алик Вольпин, когда отсидел, пришел бить ему морду. Шурка открыл дверь, а у него на руках ребенок был, родившийся у него за время, пока Алик сидел. И Алик так ему и сказал: «Твое счастье, что у тебя ребенок, а то я тебе пришел морду бить». - А какое было в целом отношение в вашей семье к строю? - Во-первых, сидел дед. Посадили деда в 1938-м по доносу его же коллеги композитора… О деде вышла книжка «Степан Максимович Максимов» и там все это сказано. Оказалось, за то, что дед в свой оркестр (он был дирижер) двух «лишенцев» взял. И за это дед получил срок – 10 лет. Когда он вернулся, то уже его кто-то взял в оркестр, помня его доброе дело. И он, вместо того, чтобы на тяжелых работах быть, играл в оркестре скрипачом. К тому времени, когда посадили Верусю, дед сидел (правда, дед с нами не жил, когда Веруся родилась, он расстался с бабушкой и женился на другой женщине), у бабушки еще сидел родной брат – как она и мы все думали, что сидел. А на самом деле брата, дядю Петю, посадили в 23-м и дали всего 3 года, но за день до освобождения его отравили. И он уже не вернулся. Это потом из лагеря кто-то приехал и рассказал. Так что у нас в семье очень были негативно настроены, но об этом молчали. Я ребенком об этом не знала. Единственно, так как мы жили в коммунальной квартире с соседями, я жест бабушки помню с младенчества – когда начинались разговоры о безобразии вокруг или еще что, она делала так (показывает жесты), что значило: «Молчи. НКВД. Посадят». Так что бабушка была очень пуганая, настолько пуганая, что когда однажды в церкви ей предложили хором время от времени «Отче наш» или «Символ веры» петь, она отказалась, потому что она с тех пор, как взяли дядю Петю, боялась даже в церковь ходить. А, тем более, петь в хоре. И потом она посвятила всю свою жизнь детям и внукам. Хотя она была учительницей русского языка и литературы, она довольно рано ушла на пенсию. Итак, мы вернулись в Москву в 1943-44. Жили все в одном месте, в основном, напротив ЦК партии, потому что в центре Москвы еще топили и легче с карточками было. Бабушка, ее четыре дочери и я, шесть человек, 19 метров комната, еще рояль там стоял, так что мы помещались только еле-еле. Ну, Веруську потом забрали. У меня сохранились нежные воспоминания о библиотеке имени Ленина, которая тогда находилась на Знаменке, Фрунзе ее потом стали называть. Пашков дом, с этой стороны обойдешь и сбоку вход. Там было тепло, не замерзали чернила – а дома замерзали, потому что если мама придет и не истопит печку, то невозможно уроки было учить. Учебники не у каждого были, а там учебников вволю – придешь, в библиотеку войдешь, любой – арифметика, или родная речь… А то сделала урок, бежишь к ближайшей соседке, передаешь ей учебник по математике, берешь у нее русский и так далее. Там не замерзали чернила, было тепло и учебники – и поэтому я с такой нежностью всегда, когда вижу Пашков дом, вспоминаю, как там было в детском зале хорошо. Потом, после 45-го года уже, наверное, когда легче немножко стало, мы перебрались с бабушкой на проезд Серова. Но иногда с мамой жили в Савельевском переулке – это на Остоженке, теперь он Пожарского называется, и оттуда совсем близко до библиотеки. И вот там как раз мерзли чернила и буржуйка стояла, на которой и готовили. Прямо в обычной квартире стояла буржуйка, и труба выходила через форточку. Начинала я учиться в школе триста двадцать какой-то – неважно – в Колпачном переулке, где одно время был ОВИР, потом в другой школе, в Вузовском переулке, потом еще в том районе. Потом перешла, когда мы с мамой туда переехали, в школу в Хилковом переулке, это напротив Иняза, и уже остальное время до 19-ти лет я в основном жила на Остоженке, а потом переехали на Арбат, вернее, на Смоленскую, в Проточный переулок. Когда мама уезжала, бабушка на какое-то время меня брала, она в это время жила у Курского вокзала, к другой тетке, и пока мамы не было, я жила там и училась в Лялином переулке. После окончания школы я поступила на экономфак. Мама в этот момент была в экспедиции. Когда она приехала, все стали кричать: «Профессора остаются ради того, чтобы их детей устроить, а у Вас, Нина Степановна, дочка поступает, а Вас нет». Учась уже на экономфаке, я узнала о существовании искусствоведческого отделения на историческом факультете (я сначала даже не знала, что такое есть). Я стала ходить на их лекции. Когда надо было сдавать сессию, мы подали заявление о переходе. Мне сказали, что пожалуйста, но если сдам экзамены. И я сдала, и в результате перешла на искусствоведческий факультет. И кончала я уже искусствоведческий. В студенческие годы я была очень активная. На целину я не поехала, потому что мы, искусствоведы, были, в этот момент на практике. Мы каждое лето куда-то ездили. На картошку, конечно, тоже ездили. Я достаточно активной комсомолкой была. Со мной на одном курсе учился Володя Осипов. Он был историк, и с ним учился некий Аристов. И, помню, когда обсуждали, что Аристов написал какую-то листовку, мне это настолько было до фени, потому что я абсолютно была в это не включена. Меня это не интересовало совершенно. - У меня тогда вопрос. Вы были уже в более взрослом возрасте, когда происходили довольно серьезные изменения в стране – смерть Сталина, потом начало хрущевского времени, XX съезд – это ведь уже 56 год. Т.е. для Вас это проходило где-то далеко? - Нет, нет. Смерть Сталина, конечно!.. Вот тут впервые бабушка высказалась. Что умер тиран или что-то в этом роде. И тут вот мне сказали про дядю Петю. У меня со стороны матери двое сидели, и у папы брат родной сидел, как троцкист. Я его никогда не видела и не знала. Я в 35-м родилась, а его в 37-м посадили и не в Москве, где-то в провинции. И о том, что у нас сидельцы в семье есть, я впервые узнала после смерти Сталина. Плакать не получалось, но неудобно было, и я себе слюнями изображала… Но девчонки пошли смотреть его [похороны], а у меня в это время, к счастью, была ангина, и я лежала дома с завязанным горлом. Но девчонки на Трубную не попали. К этому времени была замужем моя младшая тетка Веруся. Я часто бывала в их доме, врача Лимчера квартира была на Спиридоновке, и они говорили там что, ах, какой ужас, врачей забирают. А Лимчер, свекор моей тетки, в Кремлевской больнице работал. Фамилии Виноградова и всех этих врачей я просто понаслышке помнила, и как все они возмущались, не веря этому. Когда их потом выпустили, после смерти Сталина, это было воспринято с энтузиазмом. Но даже когда мужа стали таскать на процесс по поводу Галанскова (он с ним дружил), я и то как-то в стороне совершенно была. И на процесс Гинзбурга и Галанскова[2] не ходила, а он не ходил по той причине, что он кончил Институт международных отношений и работал в том момент в ГКЭС, такой комитет экономических связей был, и ему было лучше не появляться там. Тем не менее, его в КГБ вызывали, но об этом он мне не говорил. - Тогда как и когда Вы оказались вовлечены в Движение? - У мужа была такая творческая компания: Стасик Красовицкий, который теперь священником стал, Валька Хромов, Галя Андреева – все они в Инязе учились. А Стасик с моим мужем учился с 5-го класса в английской школе. Английская школа образовалась в 49-м году. Когда Сталин всех переводчиков перерезал, он понял, что без переводчиков жить нельзя и быстренько организовал три школы – школу немецкую, французскую и английскую. В английскую школу, как в любую языковую, ученики отбирались так: брался центральный район, из него брали лучшую школу, из лучшей школы брали лучших учеников и по принципу, чтобы не было евреев. В результате в Сашином классе были Соловьев, имя бабушки которого не выговоришь, такая сложная еврейская фамилия, Андрюша Антонов, у которого бабушка Гехт, Саша Корсунский, у которого папа наполовину (хотя он потом говорил, что на четверть) еврей, единственный русский Витя Руднев у них был… Вот их из их центральной школы отправили в эту новую школу, она тогда находилась в Сокольниках за каланчей. Жили они на улице Москвина, теперь она называется Петровский переулок, в доме, где размещались мастерские Большого театра. И он окончил школу с английским языком, и поэтому естественно поступал во Внешторг. А Внешторг, когда Саша должен был учиться на последнем курсе, слился с институтом Международных отношений. И диплом у Саши звучит так: в 1957 году поступил, а в 1958 году окончил. А с Сашей я была знакома сначала через его маму, как ни странно. Однажды мой родственник, муж моей самой младшей тетки Веруси, когда Веруся была на гастролях, предложил мне: «Хочешь сходить послушать музыку?» У него был знакомый, Иван Дмитриевич Фадеев, в Камергерском жил, у которого было потрясающее собрание вокальных пластинок. И вот мы пришли к нему, а его не оказалось дома. А он говорит: «Ничего, здесь рядышком живет Ирина Александровна Черноцкая, зайдем к ней. Она очень интересный человек». Ирина Александровна была дома, мы сидели, разговаривали, и она только могла говорить о том, как Саша поступал в институт. А Сашки самого не было. А года через четыре, когда Сашка уже на последнем курсе был, приятель наш из Ленинской библиотеки, Боренька, говорит: «Ирэна, я должен Сашке бутылку коньяка. Он мне сделал перевод, а деньги не берет. Пойдем к нему». Я говорю: «Пойдем, только однажды мы перед этим заходили к нему, а он нас не пустил, встал у двери, сказал, что у него завтра экзамены. Поэтому, Боря, ты заранее позвони». А у Саши на семь этажей был единственный телефон, и там консьержка бегала, всех звала к этому телефону. А Сашу, так как он не артист Большого театра, когда позовет, когда нет. На сей раз она позвала его, и Боренька сказал: «Мы придем с Ирэной». Он всех на заграничный манер звал. И мы приходим. А Сашка, который не узнавал никогда голоса, говорит: «Ребята, подождите, не будем распивать, сейчас еще кто-то придет с Ирэной». «Да ведь это я тебе звонил!». И это было где-то 16 декабря 1958 года. А так как мне надо было в зимнюю сессию сдавать французские странички, а Сашка, кроме английского, еще в институте французский и китайский учил, то он мне переводил, а я наверху писала, чтобы сдать своей француженке. И таким образом, как Сашка говорил: «Французский стал нашим галиотом». Познакомил нас поближе. И на Новый год они меня пригласили уже в свою компанию. Они справляли тот новый год у Вити Руднева, которого в английскую школу взяли вместе с Сашей. Саша с первого класса с ним сидел на одной парте. А еще третий у них был Андрюша Антонов, он теперь профессор Московского университета, сегодня вечером у него 70-летие. И вот мы все справляли Новый год у Вити Руднева, так как у него хоть и в коммунальной квартире, но целых две комнаты смежные, и родители ушли, молодежи предоставили возможность встретить Новый год. И мы первый раз на этот Новый год поцеловались с Сашкой. А Борька увидел и сказал: «А я за тобой ухаживаю, а ты целуешься с Сашей». Я говорю: «Да хоть бы ты мне сказал, что ты за мной ухаживаешь!». У меня миллион приятелей было – я очень именно дружила с парнями. Но было уже поздно – поцеловалась уже с Сашей. А Борька какой гад! Пришел он как-то к Ирине Александровне, Сашиной маме. А она член компании была. У Саши тоже на первом этаже, в доме Большого театра, была большая, метров 20, комната, в коммунальной квартире, и они часто у Сашеньки собирались, потому что Ирина Александровна и сама компанейский человек, и она или отсутствует, или она с ними вместе выпивает и в беседах принимает участие. Она всегда говорила: «Бог веселья, винограда, / завещает нам три чаши / осушить в пиру вечернем…» Всегда цитировала и всегда велела после третей чаши [неразб.] но не все внимали ее голосу, естественно – после третей была и четвертая, и пятая... Другое дело, что денег никогда не было, и поэтому особенно много чаш не получалось. Ирина Александровна была свой человек. И Боренька, до Нового года, до того как меня привести, сказал Ирине Александровне: «Я Вас познакомлю с моей новой б-дью». Вот какой гад! Я даже не знала, что он за мной ухаживает, а он меня в б-дь записал! Мне Ирина Александровна об этом потом сама сказала. Чистосердечный человек была невероятно! Среди Сашкиной поэтической публики Валька Хромов дружил с Юркой Галансковым, который на «Маяк»[3] ходил, где, не знаю точно, читал стихи или нет. Вот это был первый звонок «с того света». А так как Саша единственный, наверное, работал в учреждении ГКЭС, то «они» решили, что легче всего будет воздействовать на него, если он хочет остаться на работе, поехать в командировки. Но Саша отказался «стучать». После этого им пришлось вызвать Черноцкую Ирину Александровну, маму Сашину – думали, что она на него повлияет, но ничего из этого не вышло. С Аликом Гинзбургом нас с Сашей познакомила Наташа Горбаневская на выставке Пикассо, по-моему, поэтому о его существовании мы знали, и знали, что он культуртрегер, как называли его друзья. Но пока это было где-то далеко и меня не очень волновало. А когда в 1968 году 13 мая был день рождения Алика Вольпина (я училась вместе с его женой Викой, она тоже искусствовед), то его только-только выпустили из «психушки» благодаря письмам и шуму, который был поднят. На этот день рождения очень много народу собралось. Я помню, как кто-то, Алик, по-моему, представлял Людочку Кац, которая потом стала Кушева, что это невеста Буковского. Действительно, с Володькой у них были тогда какие-то отношения, но когда Володька сел, а Женька, наоборот, вернулся, Людка вышла замуж за Кушева. И я Верке говорю: «Что ж такое, а Володька?» А она говорит, нет, говорит, Кушев прав, потому что сначала он ухаживал за Людкой, а потом Бука пытался Людку отбить, но она все-таки, в конце концов, за Женьку вышла замуж. Так что справедливость была восстановлена. И вот я не помню, то ли Павлик Литвинов (один из участников демонстрации на Красной площади в 1968 г. - прим. ред.), то ли Инночка Корхова меня привели на этом дне рождения к Людмиле Ильиничне Гинзбург. Она жила на Пятницкой. И она нам читала письмо Алика, где он говорил: «Пишите больше, нам так интересно как вы живете…». И старушка говорит: «Ирина, Вы искусствовед, почему бы Вам не писать, какие выставки здесь проходят, какие концерты бывают». И я стала писать. Алик ужасно обрадовался. А я ему и Юрке стала писать, потому что я Алика вообще хорошо знала, а Юрку знала через его первую жену. И, кстати, послала свою фотографию. А Юрка, оказывается, никому не показывал эту фотографию, только сам смотрел на нее. Потом Алька, когда обнаружил, говорит: «Что же ты не покажешь нам Корсунскую, я с ней тоже переписываюсь, мне же интересно посмотреть». Хотя он меня видел и знает, но ему интересно тоже было на фотографию посмотреть. И вот я так и переписывалась с ним. И с этого началась моя деятельная переписка. У меня в письмах обычно инициалы стояли, чтобы для ГБ сведения особенно не давать. И вот, по-моему, тут мне Инночка Корхова сказала: «А ты не могла бы мне посылать бандероли туда?» И она мне объяснила, что в бандеролях, даже если газету посылаешь, в нее можно пакетики с заварным кремом или с супом или даже шоколадку завязать и послать. И вот я так стала посылать эти бандеролечки туда. И они доходили. Не каждый день, конечно, а хотя бы раз в неделю. Денег-то нету, поэтому я стала собирать у знакомых деньги. От зарплаты до зарплаты же жили и лишний раз что-то купить – уже проблема. Как мой сын младший идет с моей мамой мимо булочной и говорит: «Нина, тебе по карманам купить мне шоколадку?» Не всегда по карманам было купить шоколадку, и поэтому я с друзей стала собирать: кто «пятерку», кто «трешку», кто еще сколько. Это я говорю к тому, что еще до того, как Исаевич (А.И. Солженицын - прим. ред.) стал давать деньги, этот фонд существовал и негласно, и, самое главное, тогда мы не отчитывались, и поэтому никаких документов, никаких списков не существовало. Это все целиком на доверии, на совести каждого человека было. У меня просто отдельно, так как я безалаберный человек, лежали деньги те и другие, чтобы я не спутала. Так вот началось. Как известно, оттуда отвечать они могли два раза в месяц, по-моему. И они всем ответ сразу писали: «От такого-то получил письмо, интересные там вопросы такие-то и так далее». А однажды мне кто-то выговорил: «Вот, ты пишешь про концерты и выставки, а каково им там локти кусать, когда они не имеют возможности, вроде дразнилка получается». Я тут же Альку спрашиваю: «Алька, вот есть такая точка зрения, я не знаю…». «Категорически неверно, наоборот, мы же в курсе всех событий благодаря этому». И так далее. Так что он развеял все мои сомнения по этому поводу, и я продолжала освещать культурную жизнь Москвы. Позднее я прочла алтуняновское письмо из лагеря, который второй раз там уже сидел: «Вы помните, что надо делать с дельфином, если его выбросило на берег? Его надо поливать водой, чтобы он не погиб, а потом, когда можно, сбросить в воду. И каждое Ваше письмо – это как стакан воды для этого дельфина, которое его поддерживает в живом состоянии». А приехала в Америку, и мой фонтан письменный кончился. Все, я больше уже не могла писать. Это как Антей – ему надо было соприкасаться с землей, чтобы черпать силы. Вот у меня нет земли моей, и я совершенно высохла. То я с легкостью писала: сижу в прачечной, жду белье, беру какой-нибудь кусок оберточной бумаги, начинаю строчить. Или лежу в роддоме, у меня еще роды не подошли, пишу письмо. Сашка его отправляет. Во Владимирской тюрьме кричат: «Корсунская рожает! А кто еще не знает?». Таким образом, с переписки началось. А потом кому-то негде было остановиться в Москве. А я говорю: «Да пожалуйста, у нас трехкомнатная квартира в Москве». Правда, у нас полна горница людей была вечно. Маленькая горница за Сашей, большая комната – дети, вторая маленькая комната… 9-этажная распашонка была, на две стороны – знаете такие… - А где эта квартира находилась? - Угол Флотской и Онежской. А напротив нас был дом, где Генка Айги жил с Наташей… - Ведь и Вольпин где-то там… - Вольпин у «Речного» у самого. А нам удобнее было ездить с «Водного стадиона» на автобусе 70-м, по-моему. У меня ворох, конечно, белья и каких-то костюмов всякого размера – кто что мог давать, чтобы зеки сразу переоделись в цивильную одежду, чтобы на улицу было в чем выйти. - А Вы помните, какие люди проходили через Вашу квартиру? - Я всех не помню. По «Хроникам…» можно посмотреть. Из мальчишек Вася Кувылин мимо меня ехал, замечательный мальчик с Западной Украины. Они со Славой Лесевым ехали домой. Лесева убили уже в послеперестроечное время - он священником был. Лесев останавливался у Нины Буковской, по-моему. И вот очень интересный пример: Вася Кувылин, которому на все было наплевать, ничто его не касалось, «плюй на все и береги здоровье», с нормальной нервной системой. Лесев, который на все реагировал болезненно, все в нем протест вызывало, он еле доехал до дому. Как мне Орыська Сокольская, его сестра, рассказывала, что когда Слава приехал, мать его как ребеночка жидкой манной кашей отпаивала. Она с него снимала рубашки, они мокрые были от пота – слабость такая у человека была. И она выходила на порог и молилась, чтобы он не умер. Вот такой слабенький он вернулся. Одинаковый срок, шесть лет. Три года в лагере, три года во Владимирской тюрьме. Что нервная система у Васьки, что нервная система у Славки. Вот два человека с совершенно разной нервной системой и с совершенно разным состоянием здоровья вышли. У меня был перевалочный пункт, через который ехали матери, жены с детьми. Один раз жена Гаяускаса (Балис Гаяускас - известный литовский диссидент) была, потом она перекочевала к Костериным – у меня бесхозный дом, значит, все делайте сами. А та не привыкла так. Она в гостях не умела так. А там Любочка все им приготовит. А мне некогда готовить. Правда, Любка тоже и работала, и дом держала. А мне некогда было дом держать. У меня когда есть поесть, когда нечего поесть. Сами хотят картошку – пускай сварят. И большинство это устраивало. Украинки: Листовая, Осадчая, Наденьки Светличной мама, с Еремой, старшим ее сыном – все через меня ехали. Вот, например, кто-нибудь мне звонит из Украины: «Иринка, мне дали три дня». И чтобы ей в хвосте там не стоять сутки, я уже беру билеты ей с ребеночком. Надо было на два поезда, по-моему, брать, чтобы успеть на «кукушку», которая шла по лагерям. Потьма-1 и Потьма-2 были. Поэтому нам только два или три поезда подходило. И ей же еще на работе не всегда дадут [отпуск]. Украинцы лютовали чище всех. Отец Мирон, тоже из Западной Украины, который стремился в Германию уехать, с матушкой Анной у меня гостили. Он так хотел в Германию уехать, потому что они когда-то жили в Германии, так что они имели какое-то право. Но вместо Германии его посадили. Мишагин тоже был у нас. Безумно интересный человек. Он же бургомистр Смоленска был. Про него есть у Гарика Суперфина, о Катыни. Ему почему дали срок? Он туда, в Катынь, ездил и видел, что эти польские офицеры были расстрелянны советскими, а его заместитель Базилевский согласился на Нюрнбергском процессе говорить, что это немцы сделали. И в результате человек 25 лет просидел. Без имени, маска железная. Имя у него отняли, у него только был номер. Чтобы не знали, где находится Мишагин. Потому что он мог давать показания против них. И умирал он уже в доме для престарелых под Мурманском, на Княжей Губе. С Алтуняном[4], я помню, только переписывалась. С Петровым переписывалась. Ему особенно некому было писать, кроме Ленки. А Ленка, его дочка, как-то отстранилась от него, поэтому он мне даже письма присылал. Караванскому писала. Ниночка Строкатова, когда еще ездила к Славе, то тоже через меня. Потом ее саму посадили, а потом мы со Светочкой Арцимович[5] в Ростов поехали ее забирать. - А как Вы со Светланой познакомились? - А в Одессе. Правда, она говорит, что еще раньше были знакомы. Славка[6], вернее, говорит, что еще раньше. Игрунов пришел к нам и сказал: «Меня зовут Вячек. Я пришел к вам от…». И не надо было даже говорить, от кого: по роже видно, что не гэбэшник, и ладно. - То есть, Вы по роже определяли? - Естественно. Но, по-моему, у меня еще и интуиция работала. Один раз я промахнулась, об этом Ленька Плющев мне рассказал: «Ты меня и Павлика на процессе Ларисы за гэбэшников приняла». Вот это я начисто забыла. Когда была демонстрация 1968-го года на Красной площади, я только что вернулась из своей командировки в Карелию. Успела [до этого] побывать на процессе Толи Марченко. Его выселяли из Москвы. Это было в суде на Песцовой. Когда объявили перерыв, все разошлись, а мы остались в зале. Алик Вольпин стоял спиной к подоконнику и сказал: «А не устроить ли нам по этому поводу демонстрацию?». Я помню Аликовы слова. Так что у меня ощущение, что эта идея родилась у него. - А как Вы попали в Одессу и с кем Вы там познакомились? - С Олегом Курсой, с Петей [Бутовым] и его женой Таисией. Тымчук ко мне еще раньше приезжал. - А кто Вас ввел в этот круг? - Славка, наверное. - Т.е. Вы, когда приехали, с ними уже были знакомы? - Да, я знала их, конечно. Вячек тогда уже сидел точно. Там еще Сирые такие были. И какой-то дядька, констрактор, как говорят в Америке. Он чего-то выиграл и нас посадил на пароход – это называлось круиз. Он пригласил Светку с Юлькой[7], чтобы их как-то отвлечь, но раз тут мы – то заодно и нас. Из Одессы до Ялты и обратно мы ехали на этом пароходе. А вот как этого дядьку звали, убей меня не помню. Потом был еще какой-то нерешительный молодой человек с еврейской фамилией, который никак не мог решиться, уезжать ему или не уезжать… Фима что ли его звали… Писатель… - Ярошевский? - Нет, по-моему. Надо у Светки спросить. Хотя может быть – не помню. Я помню, как Светка меня со своей подругой Риночкой познакомила, наверное, она жила уже тогда в Вильнюсе. Вот все, что об Одессе я помню. Как мы сидели на террасе, даже на улице, но над нами был виноград, и так как дело было уже к концу августа, иногда виноград можно было рвать. - А я слышала, что после того, как Игрунова арестовали, к Вам с обыском пришли. Это так? - У меня было два обыска. В связи с «Хроникой текущих событий», одновременно у Ковалева был. Это был 1972 год. А второй обыск, убей меня не помню когда был. - Он говорит, что после его ареста, в 1975 году. - Значит, это был второй обыск. У меня, к счастью, совершенно чистый дом оказался, буквально за день до этого я какую-то книгу унесла. Но здесь я помню такую деталечку. Когда перед этим был обыск у Гершуни[8], он их впустил, сам лег на кровать, закрылся подушкой и спал. А когда ко мне они вошли, я сказала: «Учтите, каждого сажаю по комнате. Ирина Александровна, Вы будете в своей комнате, Женька будет в большой комнате, Сашка будет в маленькой комнате. А я буду присматривать везде. Потому что как они подсунут что-то, мы с вами не заметим, они же как фокусники в цирке – это я при них все говорю. А вот чтобы они не украли мои книги – это я буду следить. Как у Гершуни было: они мешками у него книжки себе брали. Писать ничего не надо, он-то не видит. А один дурак и говорит: «Неправда!» А я ему: «А за тобой я специально буду смотреть, раз ты у Гершуни был и знаешь, что это неправда». И за ним я специально ходила. Это надо каким идиотом быть, чтобы сказать, что это неправда, этого не было!.. А первый обыск у меня был в 72-м году. Когда они приходят с обыском, самое неприятное, это то, что ты не знаешь, есть ли у них ордер на арест или нет. А по материалам обыска они иногда могут позвонить по телефону, чтобы привезли ордер на арест тоже. И поэтому это самое неприятное – ты не знаешь, увезут тебя сейчас или нет. С первым обыском мой Николушка, старший сын, хорошо сделал. Его отпустили все-таки в школу, и я ему шепнула: «Зайди к Наташке Айги и скажи, что у нас идет обыск». И то ли от нее, то ли еще от кого-то, в общем, очень быстро стало известно, что у меня обыск идет. Это когда Ковалева сажали, это первый мой обыск был. Но, надо сказать, это для сына была жуткая травма. Прошло уже года три. Мы сидим, в субботу или воскресенье, на кухне завтракаем. И вдруг резкий свист тормозов. И Колька бросается к окну – «не за тобой ли?». Все три года ребенок жил с ощущением, что его мать вот-вот возьмут. И вот здесь я первый раз задумалась, а не нужно ли уехать, чтобы у ребенка была нормальная нервная система. Разговора об отъезде у нас с Сашей никогда не было. Саша каждое лето уходил с Хромом, с Куклесом, со Стасей Красовицким по северу. Начиная с Архангельска, они обошли Вологодскую губернию, спускались по монастырям. И поэтому, как говорил Корсунский, возможность пройтись по Парижу и не пройтись по какой-нибудь Калужской или Рязанской области снимает всякие разговоры об отъезде. А после этого я Сашке сказала, что, мол, Саня, ребенок переживает. И вот тут он и произнес эту знаменитую фразу. Однажды был такой случай. Мы с Ниной Петровной Лисовской встречали Караванского в Калуге, но оказалось, что его отвезли прямо в Тарусу. Мы этого сначала не знали, и у Калужской тюрьмы его встречали. Мы поехали в Тарусу. И там я ночевала в доме, где до этого прежде не ночевала. А мне сказали, что надо пересчитать окна и двери в доме, и тогда приснится будущее. И вот мне приснился сон, который мне Валя Машкова тут же расшифровала, что я уеду. Это было за полтора года до 1980-го года. Т.е. это не сразу исполнилось, но исполнилось. 29 января 1980-го года меня вызвали в милицию. Сашки не было дома, он где-то кирял и остался там ночевать. А я всегда просила: «Саш, умоляю, только не езди в метро, чтобы тебя не замели. Лишний повод милиции не надо давать». Я понимала, что его из-за меня могут начать преследовать. Но он не всегда это соблюдал, он обычно все-таки пьяный, но ехал домой. А здесь он не ночевал и поэтому утром звонит и говорит, мол, Кузя, метет хвостом: «У нас сегодня «Гараж» рязановский…» (В Институте экономики международных отношений показывали фильмы, которые в других местах не шли) «…Пойдешь?». «Нет, в «Гараж» не пойдем, а в милицию пойдем». «Что?». «Да дядька какой-то пришел». «В форме?». «В форме». «А в каком чине?». «Не знаю». «Сколько у него просветов – один, два, три?». «Да он высокий был, куда я его осматривать буду?». «А сколько звездочек?». «Да вроде три или четыре». «Понятно». «И он повестку прямо в руку сунул»… Пока они суют в почтовый ящик, ей можно подтираться, а когда дают в руки и ты расписался, уже за неявку что-то грозит. Я сказала, что расписалась, поэтому придется идти. Это был какой-то день, может быть, среда, когда мы с Сашей ходили по магазинам. Раз в неделю он брал рюкзак или каталочку, и мы шли в магазин и закупались. И на этот раз я на всякий случай взяла каталку, но оделась потеплее. Была зима. Лариса Богораз, когда я в ссылке у нее была, учила, что надо обязательно на пуговках, но не на ремне, надевать порточки, потому что ремень отберут, и штаны могут тогда сваливаться. Я на пуговках надела теплые штаны, специально так, как «садиться». Думаю, если сразу заметут, чтобы уже тепло быть одетой. И долго думала, какую книжку мне взять. Библию? Так у отца Глеба и то отобрали Евангелие. А я начну с ними орать по этому поводу. Нет, думаю, мне лишний конфликт не нужен. И я взяла маленький сборник русских народных песен, чтобы в камере петь. Я не люблю унывать очень – а тут буду петь русские народные песни. И пошли мы с Сашкой. Приходим. Я говорю, к такому-то (сейчас не помню фамилии). «У нас таких нет». «Покажите повестку». «А да, да, да». То ли он опоздал, то ли что… Там был мужик, по описанию, тот самый, который всех отправлял: Дремлюгу (Владимир Дремлюга - один из участников демонстрации на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 г. - прим. ред.) и так далее… Марат что ли его звали – не кавказского, а мусульманского вида. Чернявенький, но на какой-то Северный Кавказ больше похоже или на татарина. А я еще спрашиваю: «Долго, нет, а то нам в магазин надо идти». Чтобы узнать, собирается забирать или нет. «Нет, я не думаю, что долго будет». Но Сашка уже, смотрю, облегченно вздохнул. А то, я думаю, придут, скажут: «Вот мужика изнасиловали, вот такое-то дело». Они же могли все что угодно придумать. Нас милиционер завел в комнату пустую, и он какое-то время подождал, дал ему, видно, отойти от двери, так я поняла, и говорит: «Ирина Владимировна, я должен заявить, что либо Вы прекращаете свою антисоветскую деятельность…» А я говорю: «Да какая антисоветская! Письма пишу, то же мне – антисоветская деятельность». «…либо мы не будем возражать, если Вы уедете». «Какое ехать! У меня и вызова-то ни одного нет». «Для Вас это не проблема», - сказал он. «А что я делаю, я только письма пишу!». «Вы оказываете моральную поддержку нашим врагам». Моя основная вина была – письма писала. Но эта беседа, действительно, была совсем недолгой. После этого мы с Сашкой пошли в магазин, а я на следующее утро поехала к Арине[9] и рассказала все. Я знала, что комната, конечно, прослушивается, а она через два дня должна была ехать к Алику [Гинзбургу], которого обменяли уже тогда (Гинзбурга обменяли в 1979 году – прим. ред.). И я ей сказала: «Арина, на всякий случай пришли вызов». И пришел вызов очень быстро. Приняла его Ирина Александровна. И мы отдали его в другой дом куда-то. Сделали вид, что мы ничего не получали. На следующий день после милиции я узнала, что вызывали человек семь-девять[10]. Я так была потрясена! Я себя считала во втором эшелоне, во второй сотне, но никак не в первой десятке. До сих пор для меня загадка, почему я им так мозолила глаза! Может, потому что я шумная, может, потому что общительная. Вот что им мешало, для меня до сих пор загадка. И для меня была загадка, зачем Боженьке надо меня куда-то отправлять, когда мне хорошо здесь и я не хочу никуда ехать. Ни я, ни Сашка никогда не хотели эмигрировать. Единственный раз шевельнулась идея, когда Колька заволновался. Уже там я поняла, что Кольке грозила армия, и он и в Афганистан мог попасть. Потом был обыск, не помню, когда, в 1981-м году[11], что ли, и потом вскоре после этого обыска меня вызвали уже на Лубянку. И здесь я им устроила цирк. Мне казалось, что у Алешки Костерина в «Хронике...» где-то об этом написано…[12] Я пришла на Малую Лубянку (там сбоку вход, недалеко от костела), говорю, вот, меня вызвал такой-то. «Его нет». И я ушла. Дошла до метро и своей подруге близкой, Танечке, говорю: «Танечка, ты представляешь, какие мерзавцы! Я пришла в 10 часов, а его нет. Они думают, я буду сидеть и дрожать. Хрен два». «Иришенька, мы за тебя молимся… Они же от тебя все равно не отстанут, я тебя умоляю, вернись». Я вернулась, 20 минут уже одиннадцатого. «Ну как, он пришел?». «Пришел, пришел!». Мне говорят: «Дайте паспорт». Я говорю, нет у меня паспорта, только читательский билет со мной. Физиономия в нем есть, «Ирина Владимировна Корсунская» написано, 1935 год там стоит, а паспорта у меня нет. «Не полагается». «Ну, я тогда пошла». «Нет-нет, давайте». И подаю ему читательский. Иногда эти мерзавцы что делают: возьмут паспорт, человек там на допросе, ему дают пропуск на выход, он выходит, до смерти рад, что его не задержали, берет паспорт и идет домой. А на следующее утро к нему приходит милиция и говорит: «Вы выписаны». Пока он там сидел, ему выписку сделали в паспорте: он в Москве не прописан. Нет, думаю, со мной этот номер не пройдет. Я поэтому взяла читательский билет. Вычеркивайте, думаю, из Ленинки, не самое большое несчастье. Я в аспирантуре тогда была, диссертацию писала по народному искусству русского Севера. Это тоже было очень интересно. В Карелию ездила в командировку. Пришла я туда. Сидит мужик. Маленькая коморочка. Только его стул, еще второй стул, и мой стул. И здесь между нами такой малюсенький письменный столик. Я говорю ему: «Я человек эмоциональный, мне на Вас смотреть неприятно. Меня может стошнить. У Вас есть газетка?» Он стал мне помогать, газеткой все обложили. Я не знаю, то ли потому что Танька за меня молилась, но я ну совершенно вот не боялась, абсолютно! Какого-то страха у меня не было. И я, значит, дурака валяла. Откровенно валяла дурака. И с самого начала я отказалась давать показания. Имя, отчество, фамилию я еще все-таки назвала. Некоторые и имя, отчество не говорят. А дальнейшие показания давать отказываюсь. Почему? Я никогда не считала себя умнее их. У кого-то была точка зрения, что он их переиграет, что он из них что-то вытянет, то, что он может не знать, а потом расскажет. Но их специально учат. Они и на психфаке учатся, и технику допроса им преподают и так далее. Единственно, чему меня научил, по-моему, Володька Альбрехт (он был моим соседом на Кронштадтском) – это как себя вести на перекрестном допросе. «Если второй придет, начнется перекрестный допрос, один, другой, один, другой…, надо спрашивать: я с Вами говорю или с Вами? С Вами, да? Так вот, пускай он Вам задает вопрос, а Вы мне». Перекрестный допрос лишнюю нервотрепку создает. И точно, через какое-то время входит другой. И ошалел у порога: «А че это у вас здесь?». «А Ирина Владимировна боится, что ее рвать начнет». Ладно, говорит. А я так развлекалась. А показания давать отказывалась. Я знала, что за отказ от дачи показания мне грозит год как свидетелю. Вряд ли они будут это делать. Но я готова отсидеть была год. Я понимала, что год дадут, там могут снова прибавить за что-то: любое нарушение и снова дают. Но важнее всего мне было кого-то не подвести. А как мои слова они перевернуть могут и вывернуть, я знаю на примере многих людей. Поэтому я просто ни на что не отвечала.[13] - А что Вы можете сказать о Нине Петровне Лисовской? - О! Это замечательный человек! Во-первых, она, прежде всего, очень скромный человек. Никогда не выпячивала себя. Удивительного такта, интеллигентности, удивительный человек! По-моему, у нее проходили поминки по Мандельштаму – когда Надежда Яковлевна устраивала. Может быть, но я могу и ошибаться, где-то в их доме. Мне неловко было идти, а Илюшка Бурмистрович пошел туда. Я не настолько хорошо знала Надежду Яковлевну, чтобы ходить к людям на поминки. И у нее, кстати, тоже люди останавливались. У нее двухкомнатная квартира была. И она тоже все время – и посылки, и переводы, и кого-то опекала… - А кто она была «в миру»? - Она биолог, Университет кончала. - А как Вы с ней познакомились? - По-моему, через Ларису Богораз. А Ларису я навещала в Сибири, причем за государственный счет. От дома Народного Творчества не то СССР, не то РСФСР я поехала в Сибирь в командировку – специально попросилась туда, чтобы народное творчество Сибири изучать. И поскольку у нас часто, слава Богу, правая рука не знает, что делает левая, я за счет государства смоталась и к Ларисе, и к Пашке Литвинову. Они тогда с Майкой в поселке Усугли (?) жили. Сейчас она живет в Лос-Анжелесе. Они [с Пашкой] разошлись, но мы до сих пор с ней поддерживаем отношения. Им после развода мало кто звонит, а мне ее жалко опять же, и я спрашиваю время от времени, как она там поживает. Ее дочка была моей молочной дочерью. В отличие от меня, она очень вошла в американскую жизнь. А меня совершенно не увлекает ни их жизнь, ни их ментальность. Когда мы уехали, я надеялась, что мы во Франции осядем. К сожалению, Саша сообразил лучше, а именно что Колька, старший сын, после английской школы, и надо, во-первых, устраивать его. А там бы надо было ему французский учить. Мы прилетели в Америку 9 сентября, и Коля он уже не мог успеть в этот учебный год поступить. И он год работал у Дремлюги, помогал ему реставрировать дома, что было очень полезно. И в результате Колька мне весной проработав полгода сказал: «Мам, теперь я могу построить дом от фундамента до макушки». Потом он окончил институт, и все благополучно было. Но я очень горевала, что я не в Европе осталась. - Вы упоминали о Горбаневской. А не могли бы рассказать, как Вы с ней познакомились? - Она входила в эту компанию ребят поэтов, композиторов, художников. С Наташкой я еще вместе в Ленинке встречалась. Когда я училась в Университете, помню маленькую Наташку с длиннющей сигаретой. «Фемина» тогда только вышла. Сигаретки такие элегантненькие были, тоненькие. Я хорошо помню в курилке Наташку. У Люси Улицкой я прочитала «блаженная Наташа Горбаневская». Во-первых, я ее за блаженную никогда не считала, она, по-моему, очень хорошо соображающий человек. Блаженный не может быть трезвым человеком. Блаженный, в моем представлении, это человек, который весь в облаках и его здесь нет. Наташка достаточно здесь была. Она как-то писала: «Я мечтаю о сыне», и она таки это здорово осуществила, родив Ярослава, первого своего сына и при этом вовсе не витая в облаках, по-моему. С характером человек, безусловно, и она, бедная, жила с мамой, и мама, достаточно портила ее жизнь, по-моему. Жили они в одной комнате, естественно. И вот она училась, не помню, на вечернем или на дневном отделении. Саму ее я помню как вчера. Я не умею описывать человека. По-моему, что она человек талантливый, необычный, это было видно с самого начала. У нее была специфическая картавость, голос специфический… - Я знаю, что некоторые находят ее человеком сложным. - Безусловно! Уж это точно! То, что не простой она человек, это безусловно! Не знаешь, на какой козе к ней иногда подъехать. Не знаешь, какое сегодня будет настроение у Наташечки. - Но Вы с ней дружили? - Дружила нельзя сказать. Я к ней очень всегда хорошо относилась, поэтому, как только ее посадили, я, конечно, стала ей писать. У меня душа разрывалась: жалела её, в тот момент уже два ребенка у нее было. Как могла, так считала своим долгом её участь хоть чем-то облегчить. Помню, я к ней прихожу, а она как раз должна кормить Оську. Я говорю: «Что ты делаешь! Перепеленай сначала, а потом корми». «Да ты что, если я сейчас накормлю, он в этот момент обделается, и мне второй раз надо его будет перепеленывать». «Да ты что!». «Да смотри. Я ему сейчас буду ложку давать с водичкой, а он в этот момент будет писать». И точно! «Во хорошо, что ты меня научила! Потому что у меня Кирюшки еще тогда не было, и я с тех пор сначала кормила, а потом перепеленывала. - А Ваша религиозность – откуда она? - А я сама даже не знаю, откровенно говоря. Во-первых, Краснов-Левитин там у нас возникал постоянно. Анатолия Иммануиловича я, наверное, чуть ли не в первый раз увидела у Петьки Якира. Краснов-Левитин общительный и доброжелательный человек был, его все всегда были рады видеть – у меня лично такое ощущение. И вот моего Кирюшку он, мой кум, крестил на дому у Дудко. Кирюшка в 71-м родился. У него крестная Вера Лашкова, а крестный – Краснов-Левитин. У старшего сына крестная - наша соседка по дому, такая Лялина Таисия Петровна, а крестный Касьян … Гелизовский, балетмейстер, вдову которого я недавно навестила. Я знаю одно – я всегда жила с ощущением Бога, это я могу точно сказать. Когда мне в школе говорили: «Бога нет», я думала: «Говори-говори… Я-то знаю, что Он есть». Не знаю, за счет чего, то ли потому что у меня небесный заступник дядя Петя есть, священник погибший, мученик, то ли потому что меня монашка крестила. Но сколько я себя помню, у меня никогда сомнений не было. Школьницей мне тетка, единственная старшая сестра мамы, как-то привезла из-за границы (она пианистка была и ездила с коллективами за границу) сувениры, среди которых были, в частности, якорек, крестик, фонарик, брелочек такой. Я вынула крестик и вшила себе в стоечку школьного платья – туда внутрь. Никому не было видно, но я всегда уже ходила с крестиком. И когда проходила мимо церкви, всегда крестилась. И еще надо отдать должное моей маме – она никогда не запрещала мне ходить на Пасху. Я обязательно каждую Пасху висела на заборе. У нас напротив Обыденской церкви ворота роскошные, модерновые, и мы всегда висели, чтобы посмотреть крестный ход.
[1] Темников и Явас – городки в Мордовии. Находятся сравнительно недалеко друг от друга. [2] Процесс получил название «Процесс четырех», так как на скамье подсудимых оказались четверо: Александр Гинзбург, Юрий Галансков, Вера Лашкова и Алексей Добровольский (который единственный покаялся и давал показания против своих подельников). Центральный пункт обвинения – участие в составлении «Белой книги по делу Синявского и Даниэля». [3] Площадь Маяковского, ныне Триумфальная. Известна в 50-е – 60-е годы была тем, что там собирались молодые поэты, читали стихи. Поскольку площадь быстро стала центром сходок инакомыслящей молодежи, чтение стихов там в конце концов запретили. Об этом есть в мемуарах Буковского «И возвращается ветер…», а также в книге Л.В. Поликовской «Мы предчувствие, предтеча… Площадь Маяковского 1958 – 1965» . [4] Генрих Алтунян – один из членов-основателей Инициативной группы по защите прав человека (1969). В 1969 г. был арестован и провел три года в лагерях. Повторно был арестован в 1981 г. [5] Первая жена Игрунова. [6] Под «Славкой» здесь имеется в виду Вячеслав Игрунов. [7] Юля – старшая дочь В.Игрунова (родилась в 1973 г.). [8] Впервые об обыске у Гершуни упоминается в «Хронике…» №54 от 15 ноября 1979 года. По утверждению «Хроники…», обыск у Гершуни проходил 15 августа 1979 года. [9] Очевидно, имеется в виду жена Александра Гинзбурга. [10] Здесь И.Корсунская довольно точно описывает события. В «Хронике…» № 56 сообщается о «неделе превентивных бесед» в конце января 1980-го года. В тот же день, что и Корсунская, 29 января, для бесед были вызваны Л.Терновский, В.Кувакин, Н.Лисовская, А.Найденович. 30 января были приглашены М.Петренко и В.Гершуни (последний по вызову не явился). Корсунская, правда, не упомянула о том, что после вызова в милицию она послала в прокуратуру Москвы жалобу на прозвучавшие в ее адрес угрозы (так в «Хронике…»). [11] Здесь противоречие с предыдущим рассказом о втором обыске в предположительно 1975 году. [12] Действительно, по сообщениям «Хроники…» №63 11 сентября 1981 г. И.Корсунская была вызвана в КГБ в связи с делом Болонкина. Фамилия следователя была Кожевин. В тот же день этот следователь «побеседовал» также с Лисовской и Румшиским. [13] В конце протокола допроса Корсунская приписала: "Прошу впредь ни по этому, ни по какому другому поводу не вызывать, т.к. у меня постоянные мигрени из-за спазмов сосудов, диагноз: шейный остеохондроз". (ХТС № 63).
Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



