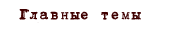
 |
|
Интервью Алексею Пятковскому и Марине Перевозкиной от 1990 года(С комментариями М. Ривкина от декабря 2007 г.)
А. Пятковский: Миша! Вопрос, который я хотел поднять, это «80-й год: взгляд из года 90-го». Тема эта, может быть, приобрела особую актуальность именно сейчас, так как некоторые Ваши подельники заняли заметное место на нашем политическом небосклоне. Особенно это касается Бориса Юльевича Кагарлицкого, который стал одним из лидеров недавно образовавшейся Социалистической партии. Поэтому меня здесь больше всего интересует моральный аспект его поведения раньше, так как отношение к нему неоднозначное. В виде лирического отступления могу сказать, что упоминавшийся сегодня мой хороший знакомый Вадим Яковлевич Бирштейн, который в 70-е годы был в «Эмнести...», на моём недавнем юбилее познакомился с моим хорошим приятелем - депутатом Моссовета, который стал социалистом. (Речь идёт о С. Баранове, - АП.) Он потом говорил мне: «И как он не понимает, что нельзя быть в одной партии с Кагарлицким?! Как вот эти люди не понимают?..» Честно говоря, сам я не вполне разделяю его пафос, потому что у меня к Борису отношение вполне нормальное. Сейчас, правда, к нему трудно пробиться: он обложился секретарями и прочее. Меня интересует Ваш - человека, который знал его лучше - взгляд на это. И заодно, конечно, хотелось бы услышать о... Заодно напомнить нашим читателям канву Вашего дела, поскольку мне, например, попался только единственный материал, рассказывающий об этом деле - большая (на 30-40 страниц) статья в апрельском номере журнала «Гласность» за прошлый год. Поэтому будет интересно ещё раз послушать... Та статья была вроде эпилога Вашей жизни здесь. Как вот теперь: изменился Ваш взгляд (если он изменился)? Ну и, наконец, напомните просто канву этого дела. М. Ривкин: Начнём с конца, с тех огромных изменений, которые произошли в моём мировоззрении за пять лет срока. И странно, если бы [было] иначе. Потому что всё-таки пять лет в зоне и тюрьме очень сильно стимулируют духовное взросление, особенно, когда человек приходит туда в общем-то великовозрастным недорослем, как я. Каждый раз, когда я сегодня явственно пытаюсь представить себе 80-й год, я как-то сразу вспоминаю один довольно забавный эпизод, который случился, по-моему, как раз в 80-м году. Мы с моим другом шли через Манежную площадь и как раз в этот момент обсуждали перспективы и нашего журнала, и всего демдвижения в Союзе. (Друг мой более-менее представлял себя, чем я занимаюсь.) Он неимоверно горячился, доказывая абсурдность этих занятий, полную [их] бесперспективность. Он показывает мне на этот вот огромный серый куб - гостиницу «Москва» (она в этот момент буквально нависла над нами) и говорит: «Ну посмотри на это здание. Ну вот как ты думаешь: может этот дом рухнуть от того, что ты на него вот так вот подуешь? Нет, не может. Это противоречит всем законам мироздания». «Эти два события могут произойти одновременно», - оговорился он после небольшой паузы. И вот тут-то я и поймал его: «Вот видишь: ты не исключаешь хотя бы совпадения по времени. А представь себе, насколько это будет мне приятно». И действительно, сегодня, сидя здесь уже в году 90-м, я чувствую себя именно так, как чувствовал бы себя человек, который подул или ткнул, там, палочкой в стенку здания гостиницы «Москва» и вдруг (наверное, к своему восторгу и ужасу) увидел, что стены здания покрываются трещинами, и оно начинает рассыпаться. То есть, действительно, совпадение по времени совершенно однозначно. Есть ли здесь основания для того, чтобы видеть такую же однозначную причинно-следственную связь? Ну это - тема отдельная и очень длинная. А говорить мы сегодня будем, конечно, о другом. Говорить мы будем больше о персоналиях. Эта тема мне как-то всегда была и ближе, и доступнее. Личность и психика личности всегда интересовали меня больше, чем явления глобальные, движения масс. К каждому из своих друзей по редакции, к каждому из друзей по нашей группе я всегда присматривался именно с этих позиций: что он из себя представляет как человек? Каковы его индивидуальные особенности? Чем он выделяется из серой массы? Какие внутренние силы привели его в группу? АП: Расскажите, что за группа и какой журнал был. МР: Я как раз подхожу к этому. Почему я, собственно говоря, говорю об эпохе(?)? Потому что каких-то внешних сил, объективных факторов которые могли стимулировать оппозиционную активность моих товарищей, не существовало. Все эти люди происходили из чрезвычайно обеспеченных и, более того, высокопоставленных семей. Это были дети советский и партийной элиты: сын референта ЦК КПСС Андрей Васильевич Фадин, сын полномочного посла Советского Союза в Ирландии Андрей Анатольевич Каплин (тоже близкий к нашей редакции), однокурсник Фадина по историческому факультету МГУ Павел Михайлович Кудюкин (сын довольно известного скульптора)... Это была далеко не ординарная публика. Ребята эти, в частности, Фадин и Андрей Каплин, ещё со школы не скрывали ни друг от друга и, в общем, ни от близкого круга приятелей свою крайнюю оппозиционную, скептическую настроенность по отношению к режиму, обменивались каким-то самиздатом, который Каплин мог привозить из-за границы, ежегодно навещая своего отца. А к моменту поступления в институт этот кружок стал постепенно расширяться. В него вошёл Кудюкин - человек, который всегда отличался таким, скорее, теоретическим, аналитичным подходом к ситуации, нежели чисто эмоциональным, взрывным, характерным, скажем, для, в первую очередь, Фадина. Кудюкин ещё в начале своего обучения в МГУ официально заявил о себе как о стороннике коммунистической идеологи (однако стороннике идеологии чистой) и противнике существующей порочной системы эксплуатации, которую он, в общем, пытался как-то интерпретировать с марксистских позиций. Постепенно эта группа пополнялась новыми членами. Это были либо ребята, которые учились на том же курсе истфака МГУ, либо личные знакомые Фадина, Кудюкина, Андрея Каплина. К 77-м году группа оформилась. АП: Хотелось бы о направленности группы... МР: В целом группа была ориентирована, в общем, нетипично для молодёжных групп конца 70-х годов. Группа была левой. Более того, группа в какой-то момент (в момент зарождения) была, не побоюсь этого слова, просто левацкой. Собственно, пафосом к зарождению этой группы и её, в каком-то смысле, организационному оформлению стали известные события в Чили в сентябре 73-го года, когда режим президента Сальвадора Альенде был свергнут военными путчистами, чрезвычайно жестоко была раздавлена демократическая оппозиция, погибли тысячи невинных людей, и левые партии и группировки включились в активную вооружённую борьбу против нового военного режима. Фадин рассказывал мне, что именно общаясь с политэмигрантами из Чили, а также из других стран Латинской Америки, которые регулярно, иногда даже через несколько часов после встречи с ним улетали в свои страны для ведения подпольной борьбы (а зачастую и гибли там), он почувствовал свою ангажированность в мировой революционный процесс. Почувствовал, что его место - где-то там, в латиноамериканских джунглях. Тогда же, в середине 70-х годов, началась (вернее, достигла апогея) активность леворадикальных вооружённых формирований и в Европе. Эти террористические группы также идеализировались Фадиным, и их активность, вернее, судьба их членов после ареста, их таинственная гибель в западногерманской тюрьме тоже послужили одним из стимулов для того, чтобы переходить к активным действия. Фадин совершенно однозначно отождествлял себя с крайне левой вооружённой оппозицией в странах Латинской Америки и даже, отчасти, с левыми террористами в Европе и видел себя как бы бойцом именно этого фронта. А советскую систему считал в тот момент одной из разновидностей, так сказать, всемирного империалистического диктата. Позиция, допустим, Кудюкина была далеко не столь однозначна, хотя в целом тоже диктовалась марксистскими стереотипами. Ну а позиция других участников группы была, вероятно, ещё дальше от такой канонической левизны. Но на общую идейную ориентацию группы влияла-то она уже меньше. Потому что ядром группы были эти два человека - Андрей Фадин и Павел Кудюкин. Дело бы, может быть, долго оставалось на уровне разговоров, но совершенно неожиданный поворот событий - знакомство Фадина с человеком, которого я вот впервые, в этом интервью, называю публично... Это - Владимир Будков. Во всяком случае, в документах следствия он фигурировал под этим именем. Это знакомство стало тем переломным моментом, когда группа перешла к активным действиям. Было решено издавать журнал (точнее, теоретический альманах), который бы включал статьи (не только законченные работы, но и отдельные наброски, может быть, даже какие-то проблемные зарисовки) вот этого очень узкого круга знакомых. Распространяться этот альманах должен был бы только вот в этом же узком кругу (ни в коем случае не для посторонних). Однако навыки конспирации при собирании материала, редактировании и печатании и, тем более, распространении готовых номеров соблюдались очень строго. Источником знаний в этой сфере стал именно наш новый знакомый Владимир Будков. Это для меня, в каком-то смысле, предыстория. Сам я познакомился с Андреем Фадиным в начале 78-го года. (Первый номер был уже издан и прочитан всеми участниками группы.) Знакомство произвело на меня очень сильное впечатление. Фадин добросовестно играл роль того самого городского партизана, о которых он читал с детства в книгах латиноамериканских писателей: изображал суровую непреклонность, готовность сию минуту идти на баррикады и погибнуть там под красным знаменем. Меня увлёк именно этот пафос немедленного, сиюминутного дела. От болтовни я к тому времени тоже уже порядком устал. В общем, всем на самом деле всё было ясно, и руки чесались. Хотелось действия. Действия он мне предложил. Официально наша группа не декларировала себя как левая. И вообще, мы стремились избегать какого-то официального вешания лозунгов и флагов. Потому что убеждения людей, которые вместе работали над изданием журнала, очень сильно отличались. Я уже говорил о позиции Фадина/Кудюкина. Я уже в тот момент, в общем-то, как-то дистанцировался от официальной идеологии и, вообще, от всего, что окрашено в розовый цвет, и занимал такую позицию некоего абстрактного, чисто этического, противостояния системе - с упором, может быть, на правах человека. Другие участники нашей группы были акцентированы, в основном, на проблемах экономики, на необходимости рыночного хозяйства, что, естественно, тоже, в общем-то, слабо гармонировало с марксоидной идеологией Фадина и Кудюкина. Поэтому как-то по необходимости было принято решение не вывешивать флага, а работать под лозунгом (который, кстати, Фадин тоже заимствовал у перуанских герильясов): «Дела объединяют, слова - разъединяют». То есть, давайте делать одно общее дело, а когда реально придём к той стадии, где для общения с широкими массами понадобятся лозунги, тогда, в результате заочного обмена мнениями через альманах, теоретические проработки, в результате каких-то обсуждений, дискуссий, у нас уже будет солидная теоретическая база, на которой мы сможем построить научную программу - не просто крик души, а научную, обоснованную программу. Это - дело далёкого будущего. Это понималось как заключительный этап работы. АП: Значит, всё-таки нельзя сказать, что альманах предназначался только для внутреннего пользования? МР: Да вот как раз из того, что сейчас сказано, вроде получается, что можно. Предназначался для профессионалов. (Идеальным считалось, что каждый читатель является и автором.) Предназначался для того, чтобы дать людям возможность заочно, не зная друг друга в лицо, обменяться мнениями. Авторы, действительно, были, в основном, профессионалы - либо выпускники истфака, либо выпускники экономфака МГУ. Ну вот я даже был в каком-то смысле исключением - там, в этой группе(?). АП: А какое у Вас было образование? МР: Я как раз тогда - в 77-м году - закончил Московский горный институт по специальности «физика горных пород». Я был инженер-физик, пошёл работать в научно-исследовательский институт. АП: А кстати, как вы нашли друг друга? МР: Через Андрея Каплина, который в течении многих лет был моим ближайшим другом. Андрей Каплин кончал Институт международных отношений и был, вероятно, одним из самых чувствующих и мыслящих людей. Это - человек удивительной судьбы, поистине трагичной. Одарённый совершенно необыкновенным талантом поэта, мыслителя, он уже в 17 лет писал профессиональные стихи, замечательные философские эссе. Эта система практически раздавила его в самом буквальном смысле. С самого начала сын полномочного посла обречён на элитарную карьеру: закрытый детский сад, закрытая школа. Он задыхался там, и когда он впервые встретился со мной, для него это был глоток свежего воздуха. Я. вероятно, был первым из его близких друзей, который никак не принадлежал к элите. Мы говорили с ним ночи напролёт, и я понял, насколько это удивительно тонкая, абсолютно обнажённая душа - действительно, нервы наружу. Ну я не знаю: есть вот какой-то такой предрассудок, что такие люди долго не живут. И он скончался от опухоли головного мозга, не дожив до тридцати. В общем, в расцвете своих духовных сил. Это был колоссальный потенциал, и если бы он дожил до наших дней... Кстати, к вопросу о 90-м. Вот если бы он дожил до 90-го года, то, действительно, Россия получила бы поэта первого класса, первого разряда(?) - с мировым именем. Ну а опухоль головного мозга, это, в общем-то, как скажет любой врач - результат колоссальных стрессов и психических напряжений. Для любого человека двойная жизнь - ежедневная, ежечасная - это прессинг. А для него это была страшная трагедия. Я видел, как он физически страдал от того, как он вынужден делать карьеру, но просто не мыслил свою жизнь по-другому. ...Да, и он и свёл нас со своим одноклассником Андреем Фадиным - в начале 78-го года. АП: А как и когда мыслился переход к массовым формам пропаганды, о возможности которых в отдалённом будущем Вы упомянули? МР: Да никак тогда(?) не мыслился. Практически, мы совершенно не упоминали вопросы работы в массах. Иногда приносили какую-нибудь, там, книжку (допустим, дневники Че Гевары и его опыт в боливийских джунглях), но всем как-то было ясно, что это мало применимо в условиях развитого социализма. Не говорилось об этом по-настоящему. АП: Ну о Вашей работе и о том, как... МР: Работе по специальности или о работе в журнале? АП: Нет... МР: Мои функции в журнале были, в основном, организационными. Я, вообще, человек скорее контактный и социальный, нежели пишущий, нежели мыслящий на бумаге. Мне поручили установление контактов, связей, передачу материалов. Часто нужно было отыскать, допустим, кого-то из читателей, кто скрылся из поля зрения. Иногда ситуации были просто комичные, потому что люди, поначалу как-то скоропалительно согласившись на некоторую активность и считая, что активность будет сугубо легальной (один так и говорил, что я буду бороться за права человека с партбилетом в кармане), как вдруг с ужасом обнаруживали (встретившись, в первую очередь, со мной), что я, не говоря ни слова об идеологии, начинаю учить их приёмам конспирации: как нужно уходить от комбинированной слежки, как устраивать тайники, как пользоваться для записи невидимыми чернилами[u1] . Это, конечно, повергало людей в совершеннейшую прострацию, и они стремились любыми средствами прекратить контакты. Уже позднее, уже в ходе следствия, я узнавал, что ситуация складывается просто анекдотично. То есть тот человек, с которым меня вывели на связь, поднимая трубку телефона и, услышав мой голос, менял свой голос и отвечал изменённым голосом, что хозяина нет дома, и так далее. Хотя я по наивности считал, что общаюсь с единомышленниками, и что моя задача - только помочь людям, давно уже созревшим и принявшим окончательное решение, помочь им перейти к практическому воплощению этих идей(?). То есть я думал, что люди находятся в той же стадии, в какой был я к моменту включения в группу, когда чесались руки. А у них чесались какие-то совсем другие места. Очевидно, они совсем не думали о том, чтобы всерьёз жертвовать своим положением, местом в жизни ради каких-то совершенно, действительно, нереальных целей. АП: Но я, простите, не успел задать свой вопрос. Ваша работа в группе и арест, следствие достаточно подробно описаны в упомянутом материале в «Гласности». Поэтому, чтобы не повторяться, сейчас, думается, есть смысл спросить о другом. Как Вам сейчас видится Ваша работа 10-летней давности? Расцениваете ли Вы её как опыт какой-то отчасти наивный? Дала ли она что-нибудь в будущем для становления участников этой группы? Стоило ли вообще браться?.. МР: «Стоило ли браться за оружие?», так?.. АП: Да. МР: ...как говорил Георгий Валентинович Плеханов? Да? АП: Тем более, мы знаем, да, чем это кончилось. Кстати, Вы можете повторить... МР: Свой срок? АП: ...чем для участников группы закончились все эти политические «шалости». МР: Ну давайте тогда, действительно, перейдём к этой стадии. АП: Нет, если хотите ещё что-нибудь сказать о работе... МР: Ну правильно, собственно. Наверное, лучше как-то резюмировать именно наш опыт: всё-таки что же мы реально сделали, каковы реальные наши достижения? АП: Мне не хочет повторяться, но если Вы скажете что-нибудь новое, то это будет прекрасно. МР: Мы вот сейчас, несколько минут назад, проходили и видели сплошь закрытый строительными лесами дом, здание. Совершенно невозможно было понять, какова в действительности его архитектура: где, там, капитель(?), колонны, не говоря уже про украшения и лепку. И любой человек, который занимается нелегальной работой, находится в таком положении. Он видит какую-то совершенно бесформенную конструкцию и не понимает, что там будет на самом деле, когда эти леса снимут. Сейчас можно сказать, что все эти строительные леса сняты, и мы видим, что реально осталось, что представляет из себя это здание сегодня, его застывшие, увековеченные формы. Понятно, что, действительно, ничего принципиально ценного в научном плане в наших четырёх выпусках альманаха не было. Это были добросовестные отголоски трудов социал-демократов и, допустим. югославских экономистов, но ни в коем роде не оригинальная мысль. Что же, действительно, было сделано? Мы доказали самим себе (и доказали достаточно широкому кругу наших знакомых), что и в этих условиях, в условиях, когда, в общем, демдвижение к началу 80-х было жесточайшим образом раздавлено, всё равно возможна была какая-то конфронтация с системой, возможна была не только позиция кукиша в кармане, но и активного, сознательного неприятия системы. И недаром я вспоминаю как своё, может быть, самое реальное достижение за все четыре года работы просто один пяти- (или десяти-) минутный разговор, когда один незнакомый мне человек из круга Фадина просто сказал: «Вы знаете, я по идее должен с Вами сейчас вообще не разговаривать, а передать Вам только этот пакет и уйти. Но я просто хочу пожать Вам руку и выразить своё восхищение тем, что Вы, зная, на что Вы идёте, всё-таки продолжаете вести эту работу». Вот это - реальное наше достижение, что мы показали людям в тот момент, что всё-таки есть какие-то диссиденты, есть протестующие, что не все - в лагере. И понятно, что этот положительный эффект был практически полностью нейтрализован, а может быть, даже и перекрыт эффектом отрицательным, эффектом со знаком минус, когда все мои друзья-подельники дали самообвинительные и обвинительные показания, признали свою вину и полностью раскаялись во всей своей деятельности. И понятно, что на весь наш круг (а это было около сотни человек), это произвело тягостный, удручающий эффект. Ну какие-то экстремальные случаи... Допустим, один случай просто полного психического расстройства у кого-то[u2] . Глубочайшая депрессия ещё у одной девочки. Но другие люди, которые продолжали вроде бы работать (всё нормально) и, там, вынужденно ушли с работы, но жили нормально, они тоже были сломлены, раздавлены. Для них это было страшный шок. Тот же Фадин, которой тоже, как и я, вероятно, уже видя [себя] где-то, там, на баррикадах или, там, произносящем свою последнюю речь на эшафоте, он вёл себя настолько в диссонансе с тем обликом, который он тщательно и самозабвенно рисовал на протяжении всех этих пяти лет, что эффект для всех был, конечно, шоковой, взрывной, и это надо понимать сегодня. АП: Но, насколько я помню, лишь Вы вдвоём с Андреем Шилкиным... МР: Шилков его фамилия. АП: Шилков, ага. ...Отказались от показаний, изобличающих... МР: Ну понимаете, если вопрос идёт о фактической стороне, то, конечно, уточнения нужны, хотя я, может, предпочёл бы их не делать. Андрей Шилков тоже давал достаточно подробные показания. Но, скажем, он не переходил такую достаточно деликатную, но ощутимую грань: он в основном подтверждал то, что говорили другие - как правило. Как правило. Но, честно сказать, не всегда. И в моём деле есть и его показания тоже. Может быть, меньше, но есть. АП: Но кажется, сели Вы только вдвоём с ним. МР: Но другое дело, что он, ещё раз говорю, во-первых, всё-таки старался не переходить грань разумного, чего я не могу сказать про остальных своих подельников. (В какой-то момент они, действительно, просто пустились, что называется, во все тяжкие - буквально соревновались в подробности рассказа. Я это видел потом, знакомясь с делом и сличая их протоколы.) Он, действительно, как-то старался сохранить лицо и формально не признал себя виновным, что, кстати, имеет большое значение при определении срока наказания. (Человек, формально отвечая на вопрос о виновности, говорит: «да» или «нет».) Он не признал себя виновным. Ну и, вообще, он шёл по другому делу - в глуши, в Петрозаводске, где совсем другие критерии действуют, более жёсткие, чем в Москве(?). АП: И сколько Вы с ним получили? МР: Андрей Шилков получил три года лишения свободы и три года ссылки. Я получил максимальный срок - семь лет лишения свободы и пять лет ссылки. АП: А остальные Ваши подельники? МР: Остальные, то бишь Фадин, Кудюкин, Хавкин, Чернецкий и упоминаемый Вами Борис Юльевич Кагарлицкий, были освобождены по указу ПВС о помиловании от 25 апреля 83-го года. АП: Но Борис, кажется, провёл год или полтора... МР: Все они провели в тюрьме в общей сложности один год и две недели: с 6 апреля 82-го, когда все были арестованы (кроме меня, кстати; я был арестован на два месяца позже - 8 июня) и до 28 апреля 83-го. АП: А можно узнать хронологические рамки работы Вашей группы и её численность (то, что можно, наверное, назвать активом)? МР: Первый номер журнала вышел летом 77-го года. Это, действительно, можно считать началом активной, организованной работы. До этих(?) пор был период, который Ильич называл периодом внутриутробного развития. Что касается актива... Очень сложно провести границу. Её провели сами чекисты, когда они кого-то арестовали, а кого-то пустили свидетелем. Но если не свидетели... Например, вот тот же Андрей Каплин, безусловно, играл активную роль (активную роль) в нашем журнале, хотя был допрошен как свидетель. Например, тот же Владимир Будков играл очень серьёзную роль на первом этапе. То есть остановимся на цифре десять. И где-то на порядок больше было сочувствующих, что, в общем, естественно. На порядок больше было сочувствующих - людей, которые либо читали, либо что-то видели как-то, где-то. АП: Что представлял из себя этот журнал чисто внешне? И не известно ли Вам, сохранились ли экземпляры этого журнала где-нибудь сейчас? Дошли ли они, скажем, до Запада? МР: Журнал представлял из себя сброшюрованную и профессионально переплетённую дерматином тетрадку машинописи (как правило, страница заполнялась машинописью с двух сторон) - тетрадку обычно книжного формата, то есть половину стандартного машинописного листа бумаги. Объём выпуска - где-то 120-140-150 страниц. Тираж - пять экземпляров. АП: Как часто выходил журнал? МР: Фактически раз в год: 77-й, 78-й, 79-й и 80-й. АП: Практически делалась одна закладка, да? МР: Да, да, совершено справ... Делалась одна закладка. АП: Сохранились ли номера? МР: Я сохранил. Мне удалось использовать моих друзей, которых я и сегодня не тороплюсь называть. Удалось сохранить два номера - 3-й и 4-й. Сразу после освобождения я передал их Андрея Шилкову. По идее, они должны быть в архиве «Гласности». Если они там не посеяны, они должны там где-то находиться и сегодня. АП: Имело ли Ваше дело какой-нибудь резонанс за рубежом? МР: Это - очень интересный вопрос. Я рад, что я могу на него ответить. Есть некая официальная версия, которую, в частности, приводит в своей достаточно авторитетной книге и такой серьёзный историк советского демдвижения, как Людмила Алексеева. Версия эта следующая: что вмешалось мировое коммунистическое движение чуть ли не на уровне генсеков еврокоммунистических компартий и потребовало освобождения нашей группы, после чего они и были освобождены. Я сразу после своего освобождения, то бишь начиная с весны 87-го года, начал своё параллельное расследование в первую очередь именно этой версии. Я говорил со всеми участниками нашего дела и пытался реально понять, кто, когда, с кем встречался, кто располагает какой-нибудь информацией об этом обращении генсеков западных компартий. Я говорил с разными людьми, и в конце концов несколько человек, не сговариваясь, назвали мне одно имя. Это - Кива Майданик. (По данным В. Прибыловского, научный руководитель А. Фадина в Институте Латинской Америки, - АП.) Речь идёт о человеке, который занимает и сегодня, по сей день, не последнее место в структуре официальной советской идеологической науки. Это - человек, который помимо своих чисто функционерских обязанностей признано считается одним из теоретиков латинского революционного движения, человек, который, действительно, постоянно использовался как связник с латинскими левыми и, отчасти, европейскими компартиями и поэтому, действительно, напрямую имел выходы на самые высшие эшелоны, скажем так, неправящих коммунистических партий - как латиноамериканских, так и европейских - и был лично знаком с генсеками некоторых компартий. Все в один голос говорили, что это он сумел организовать такое коммунистическое лобби и организовать эту поддержку. Хотя Кива долго уклонялся от нашей встречи (и понятно, что встретиться с ним было нелегко), но буквально за несколько дней до [своего] отъёзда каком-то совершенно чудесным образом, используя неожиданный канал знакомств, я убедил его встретиться и, конечно, подробнейшим образом выспросил его по поводу этой версии. Он совершенно определённо сказал, что через него никакой информации не поступало и ни о каком таком обращении ему ничего не известно. Максимум, что могло быть - как он сам мне сказал - это частная беседа корреспондента газеты «Унита» где-то в пресс-центре МИДа. То есть ну, понятно, что такого калибра шаги не влияют на деятельность Следственного отдела КГБ СССР. Откуда версия? Почему она, вообще, появилась на самом деле(?)? И на этот вопрос, мне кажется, я смогу ответить, потому что, когда я ещё сидел в Лефортово, то меня и Володю Чернецкого пропустили через «прокладу». То есть тот же стукач, который сидел с ним, он сразу же был подсажен и ко мне. Буквально, Володю увели, а меня ввели к нему на тёплые нары. Это - такой очень отработанный оперативный приём. Один и тот же человек (особенно, если этот человек неглупый, психолог), сравнивая слова подельников, сравнивая их ответы на одни и те же вопросы, может дать следствию очень ценную информацию. ...И вот этот самый мужик (звали его, кстати сказать, Данилов), он ещё тогда, с интересом глядя на мою реакцию, закинул мне эту улочку. Он сказал: «Вот Володька почему-то уверен, что будет обращение западных компартий». Понятно, что человек, находящийся в следственном изоляторе КГБ СССР, не получая никакой информации с воли, никакими положительными данными располагать не мог. Это могла быть его версия - та оправдательная версия, которую он готовит себе. Уже приняв решение написать покаянное заявление и зная, что будет вскорости освобождён, готовил себя, так сказать, чтобы объяснять окружающим вот это своё чудесное избавление. Вот. И вероятно, он же и пустил её в оборот, и она как-то была принята остальными. АП: Ну а вот в западных средствах массовой информации, в правозащитных кругах СССР это дело имело хоть какой-нибудь резонанс? МР: На этот вопрос я тоже странным образом могу очень хорошо ответить. Действительно, волею судеб я очень хорошо представляю себе обстоятельства распубликования нашего дела в самиздатовской прессе, потому что когда нас в январе 87-го года этапировали вместе с Лёшей Смирновым из Казани в Лефортово, он рассказал мне, что он как раз лично занимался сбором всех материалов по моему делу (по нашему делу). То есть он интервьюировал родственников всех арестованных и, в частности, дважды очень подробно интервьюировал мою маму. И как раз тогда он вёл альманах «В» - последний уцелевший к тому моменту самиздатовский бюллетень, который давал подробную информацию обо всех репрессиях. И в рамках этой работы он, действительно, собирал материалы по нашему делу и преуспел в этом. Насколько я понимаю, он проделал это достаточно серьезно, потому что это было последнее дело, по которому он успел собрать материалы. И в ноябре 82-го он уже сам был арестован и осуждён тоже на соответствующий срок по той же статье. И эта информация потом пошла уже из альманаха «В» в какие-то другие издания - и на Запад, и на радио, и всюду - с какими-то вариациями. Собственно, когда я ещё два месяца был на свободе, я знал, что по радио постоянно идёт информация по нашему делу - об арестах, именах арестованных, об идейных позициях нашей группы. Даже, отчасти, была попытка получить информацию о состоянии дел - кто даёт показания, кто не даёт - но эта информация была, конечно, разноречивая и спекулятивная. Это уже были, как правило, какие-то домыслы: каждый родственник выставлял своего близкого человека, конечно. в хорошем свете, и наоборот. В общем, я помню обстановку, которая тогда была. Я, конечно, заходил домой и к Андрею Фадину, и к другим подельникам. Родители были, конечно, в полнейшем трансе, и брат тоже, хотя он и изображал какую-то твёрдость. Но на Запад информацию передавал именно Лёша Смирнов. Он сам её обрабатывал и передавал. Частично в этом принимал участие брат Фадина Саша Фадин. Кроме того, позднее, уже даже в Израиле и Москве, я встречал людей, которые утверждали, что они передавали на Запад информацию по моему делу. Но точных данных я не получил, и поэтому кроме Лёши Смирнова и Саши Фадина других людей по-прежнему достоверно не называю. АП: А что Вы можете сказать о том, как сложилась дальнейшая судьба ближайших Ваших товарищей-подельников? МР: После освобождения у каждого, конечно, был где-то двух-трёхлетний период очень тяжёлой адаптации к «мирной жизни». Людям приходилось смотреть в глаза своим бывшим друзьям, которых они, в каком-то смысле, предали. Потому что по показаниям Фадина и Кудюкина было возбуждено производством около двадцати дел[u3] в отношении свидетелей. Правда, в каждом конкретном случае выносилось постановление о прекращении дела производством и о предупреждении по указу как окончательной мере воздействия. То есть никто не был привлечён, но всё равно для многих это означало потерю работы, для многих, как я говорил, это означало тяжелейший стресс. То есть они не смотрели в глаза людям, которых они предали. С другой стороны, власти не были склонны к полной амнистии и относились к ним, в свою очередь, очень настороженно. И продолжали как-то оказывать давление - как непосредственно через оперативников ГБ, так и по служебной линии тоже. И это был тяжёлый период. Только где-то к концу 84-го года они более-менее вернулись к какой-то жизни, как-то немножечко социализировались. И тут как раз повеяли новые ветры, и они вступили вот в эту постперестроечную жизнь. Ну тут уж, я думаю, что все знают теперешнее положение Фадина, Кудюкина и Кагарлицкого. Что об этом рассказывать? Но оценка, которую каждый из них дал своей позиции, очень специфична. Кагарлицкий, например, просто считает, что он вёл себя правильно, что именно так себя и следовало вести, что он ни в чём не нарушил тех принципов революционной этики, которые он прокламировал, и что это был совершенно нормальный ход для того, чтобы обмануть КГБ и выйти на свободу. В целом ту же позицию разделяет и Чернецкий. Юра Хавкин комплексует по поводу того, что он сделал, но тоже как-то невразумительно. (При единственно нашей встрече он невразумительно изложил свою оценку происшедшего.) А вот Паша Кудюкин очень бескомпромиссно и безжалостно по отношению к самому себе как-то и написал в письме ко мне (и потом не раз заявлял публично), что, действительно, он поступил бесчестно, аморально, и очень жалеет об этом. Наконец, Фадин воздерживается от резкого самоосуждения, хотя очень видно, что произошедшее оставило какой-то след, и он всё-таки задумался об этом. (Ему это тоже нелегко.) АП: Но Вы как раз не сказали о роли Кагарлицкого... МР: Ну роль Кагарлицкого... АП: ...Во время следствия. МР: Да, я не... Да, да-да-да-да. Да. Потому что его собственное дело всегда формально шло в отдельном производстве. Его дело, в отличие от нашего, вёл не ГБ СССР, а УКГБ по Москве и области. И это было вызвано тем, что и журнал он делал отдельный. Журнал сначала назывался «Левый поворот», а потом, после профилактики в январе 80-го года (когда ему официально, под расписку, было предложено прекратить издание «Левого поворота»), он начал издавать тот же журнал под названием «Социализм и будущее» - даже с продолжением нумерации. В отличие от нашего, который претендовал на некоторую академичность, это было уже издание явно пропагандистского толка: страниц двадцать на папиросной бумаге, упрощённый до предела язык и стиль подачи материала, явно рассчитанный именно на широкие пролетарские массы. (Обрыв записи.) ...Да, роль Кагарлицкого и его поведение на следствии. Фактически, конечно, наши группы, то есть Фадин, Кудюкин с одной стороны, Хавкин, Чернецкий с другой стороны и Кагарлицкий со своим кругом с третьей стороны, действовали в очень тесном взаимодействии, постоянно все связи пересекались и понятно, что рассказать о нашей деятельности он мог много, очень много. Что, в общем, он и делал в ходе следствия, - как и все остальные обвиняемые, он давал подробные показания. В том числе, я могу сказать (как я уже раньше упоминал), что, по крайней мере, по одному эпизоду он подробно изложил содержание беседы, которую кроме нас просто никто не мог слушать и о которой ни я, ни он никому не говорил. В этой беседе я, в частности, упомянул о том, что мой псевдоним - «М. Г.», то есть тем самым фактически подтвердил своё авторство некоторых опубликованных в «Вариантах» статей. И он это использовал, сказал на следствии, и потом эти показания фигурировали в соответствующем эпизоде обвинительного заключения как доказательства моего авторства. Он подробно рассказывал о том, как он знакомил меня со своими друзьями и просил проводить занятия по конспирации. И эти показания тоже нашли место в соответствующем эпизоде. То есть в общей сложности его показания фигурировали по трём эпизодам. Показания, безусловно, не только, скажем, излишне подробные, но иногда граничащие просто с явным доносительством. Например, один раз он сказал, что Ривкин считался специалистом по психологии, что, конечно, ложилось на общий имидж ужесточения картины и нагнетания ужасов, что, вот, там даже были специалисты по психологии, которые заманивали в свои сети невинные жертвы. Понятно, что всё это было уже никому не нужно, и можно было без этого обойтись, но он уже пустился во все тяжкие и не мог остановиться. И потом на суде тоже все показания подтвердил. Хотя Кудюкин, например, поступил по-другому, и на вопрос о том, подтверждает ли он свои показания, отвечать отказался. Понятно, что это не сыграло в моей судьбе принципиальной роли, потому что показания Кудюкина, данные на предварительном следствии, также фигурировали в этом приговоре, несмотря на то, что он их не подтвердил. Это уже специфика советского судопроизводства. В любой стране мира этого было бы достаточно, чтобы эти показания исключить. (И очевидно, Паша на это и рассчитывал.) Но у нас - нет. Но моральную поддержку (если и не поддержку, то, во всяком случае, какое-то сопереживание) я ощутил. Я видел, что люди тяжело переживают то, что творится (Кудюкин и даже тот же Фадин - несмотря на свою внешнюю браваду), что они прекрасно понимают, что они делают, и понимают, что это, на самом деле, страшная вещь - закладывать своего друга и отправлять его на скамью подсудимых. А вот Кагарлицкий вёл себя настолько самоуверенно и, как всегда, настолько непринуждённо общался и с судьями, и со мной, что было ясно, что этот человек, действительно, совершенно не видит никакого греха в том, что делает, и убеждён в своей правоте и сейчас(?). АП: Как думаете, для чего тогда он, собственно, участвовал в этой деятельности, если за неё... МР: А, ну понятно: «Что же, он не знал, что?..» АП: ...может быть определённая расплата? МР: Во-первых, честно говоря, с самого начала он действительно пытался бунтовать с партийным билетом в кармане и какое-то время рассчитывал, что его статус ограничится какой-то внутрипартийной оппозицией. И он чуть ли не в 19 лет вступил в партию и довольно активно делал какую-то партийную карьеру. Его ориентация на еврокоммунистические круги Запада, с которыми он действительно имел тесные связи, внушила ему иллюзию, что вот так, на уровне (на грани) какой-то легальности он и останется. Он встречался с Роем Медведевым и в каком-то смысле претендовал на этот же статус. Когда его исключили из партии, но не пошли дальше[u4] , он окончательно уверился, что такова и будет его судьба - что партия будет с ним бороться, применяя партийные взыскания. И когда, несмотря на это, его всё-таки арестовали, для него это было большой неожиданностью. Он надеялся, конечно, что этого не случится. Хотя на словах, разумеется, говорил каждую минуту, что «я готов хоть сейчас - пойду на баррикады». Но и потом даже те люди, которые, действительно, вроде бы с самого начала пошли на сознательную жертву, как Паша Кудюкин... Всё-таки одно дело, когда решение принималось 23-летним парнем в 77-м году, и когда то же самое решение предстояло 28-летнему женатому человеку, связанному с женой такими непростыми отношениями и, вообще, отягощённому уже какой-то жизненной позицией, и статусом, и научной тематикой, на пороге защиты диссертации. Этот риск стал для нас рутиной. Первые месяцы мы находились, действительно, в состоянии ежеминутной готовности к конфронтации с КГБ и, грубо говоря, арестуй они нас раньше (в году 78-м), ребята вели бы себя иначе. Но потом мы устали от этого риска, устали, вообще, от этой достаточно неэффективной траты сил. И хотя по инерции мы продолжали наши игры (потому что не было никого, кто рискнул первым сказать, что пора всё это дело бросать и начинать что-то совсем другое), но уже прежнего энтузиазма и веры в успех не было ни у кого. Поэтому(?) мы были уже морально готовы в каком-то смысле к тому, чтобы нас взять, и они это, видимо, как-то либо почувствовали, либо уловили. АП: Можете ли привести пример какой-нибудь аналитической игры, которую Вы, изолированный в процессе следствия, вели, основываясь на каких-то отрывочных сведениях об общем состоянии процесса на данное время, которые Вы получали? Что-нибудь вот такое особенное не запомнилось ли Вам? И как, вообще, проходило отстаивание своих позиций? Ведь, насколько я знаю, тактика была такая: максимально долго держаться на прежних позициях... МР: Да... АП: ...до тех пор, пока отрицать уже будет просто глупо. МР: Вы не ошиблись. АП: Такая вроде была установка? МР: Вы, действительно, не ошиблись. Когда я был в первых раз вызван на допрос (свидетелем), я начал давать показания строго по легенде. Легенда на случай ареста у нас, конечно, была разработана: что, как говорить, там, то, сё. И я вот так по этой легенде и начал всё это выдавать. Буквально с первых же слов допроса стало очевидно, что легенда, конечно, никуда не годится и что конспиративный характер наших встреч очевиден для следствия. И я находился в сложном положении: или делать то, что вроде бы подсказывает здравый смысл, то есть признавать доказанное и начинать выдвигать те или иные правдоподобные версии, отстаивать то, что ещё можно скрыть, либо занять позицию парадоксальную, то есть, упрямо, вопреки очевидности, твердить всё по легенде. Я пошёл всё-таки по этому второму пути и стал упрямо держаться за свою легенду. Формально у меня были для того основания. Следователь не предъявлял мне никаких показаний и не мог их, естественно, предъявить. (Следствие только началось.) Он оперировал материалами оперативных наблюдений, а это в суде - не доказательство. И, в общем-то, я не счёл это доказательством для себя. То есть я сказал, что «ваши бумажки меня не интересуют. Ваша агентура может вам говорить и писать всё, что угодно (у них свои какие-то интересы), а я Вам рассказываю, вот, так сказать, как было. Я Вам рассказываю как честный, лояльный гражданин. Если Вас интересует, пишите». Это, конечно, их страшно взбесило. То есть их взбесило, что я даю легенду не потому, что рассчитываю их убедить, а я даю легенду и вижу, что мне не верят, и всё равно настаиваю на своей легенде. Такие вещи, конечно. их бесят. И у меня есть достаточно сильные подозрения, что они на первом допросе попробовали нейролептик. Попробовали нейролептик, потому что, когда он ещё заваривал мне чай, я обратил внимание, что он стоял очень странно: загородил мне спиной и стакан, и пачку с чаем, и довольно долго там манипулировал. Чай был, действительно, очень крепкий. Очень крепкий. Никогда в жизни я такой не пил. И эффект его был, действительно, каким-то очень странным. То есть я почувствовал какую-то полную слабость и отключённость, и отрешённость от всего, и полное безразличие ко всему. И мне(?), действительно, было уже не очень понятно, зачем я всё это делаю, и что здесь происходит. И тут он, следователь, стал вести себя ещё более странным образом. То есть он вдруг склонился надо мной (буквально навис) и таким железным, гипнотизирующим голосом стал повторять одну и ту же фразу: «Вы никогда отсюда не выйдите. Если Вы сейчас не скажете правду, Вы останетесь здесь навсегда. Вы сейчас должны сказать всю правду». А потом вдруг сменил тон, дал мне прочитать какую-то заметку из газеты совершенно нейтрального содержания и внимательно следил за тем, насколько я адекватно воспринимаю этот текст. Очевидно, пытался понять эффект воздействия своих нейролептиков. Вечером, когда я добирался до дома, я уже по дороге чувствовал себя совершенно ужасно. То есть у меня дико болела голова, меня рвало до утра. Я чувствовал себя ужасно. То есть даже с поправкой на какие-то нервные потрясения это была реакция не психическая. Это была всё-таки чисто соматическая, телесная, реакция. Я чувствовал, что организм реагирует на что-то. АП: О каком доме Вы говорите? МР: Это всё Лефортово. А, где я жил? Жил я на Рублёвском шоссе, в доме 101, корпус 1. АП: А-а-а! Мы почти соседи с Вами. МР: Да, совершено верно. Мы почти соседи, да. Это вот - мой дом с 63-го года. На протяжении, вот, без малого двадцати лет я там прожил. АП: Хозяин этого диктофона живёт в доме 99. (Речь идёт о Я. Леонтьеве, - АП.) МР: Отлично! Да, тесен мир. АП: Да.... МР: Ну что ещё рассказать? АП: Так были с Вами какие-нибудь «игры»? МР: Были. АП: И примеры какой-нибудь Вашей аналитической работы, в частности, по примеру информации, когда (как это называется?), наседка, там... Как это Вы назвали? Каким термином? МР: «Прослойка» такая. А наседки были, конечно, всякие. Были люди, которые просто работали как «прессовщики», то есть создавали в камере обстановку такого крайнего напряжение, постоянно провоцировали конфликты и выбивали из колеи. Были, наоборот, так сказать, интеллектуалы, которые вступали в такие добрые, доверительные отношения с тем, чтобы что-то выудить(?). Большинство чередовало ту и другую тактику в зависимости от того, какая обстановка. Ну вот. Ну, конечно, больше всего их, на самом деле, интересовала судьба типографского шрифта, который я доставил осенью 79-го года из Петрозаводска в Москву, и след которого был потерян с лета(?)[u5] . Их это очень интересовало, и они постоянно через своих наседок закидывали мне удочку(?). /Нрзб./ спрашивали меня(?): «Ну вот, а что, вообще, как бы с ним можно было бы, вообще, распорядиться, допустим, в принципе, что бы ты мог сделать? И что бы ты сказал бы, если бы тебя спросили?» Там, вот такие вот вещи. Моя сверхзадача заключалась в том, чтобы внушить им, что шрифт я уничтожил. На все вопросы я отвечал соответствующим образом. То есть что, вообще, конечно, шрифт можно уничтожить, и это - самый надёжный вариант, чтобы избавиться от дальнейших проблем. Они говорят: «Ну как его можно уничтожить? Ты же не сможешь его сжечь - он же железный». Я говорю: «Ну можно его рассыпать с вертолёта в Москва-реку, можно его просто переплавить». - «Но у тебя же не было этих возможностей технически(?).» Я говорю: «Так вы же и спрашиваете это, так сказать, для примера. Вот я для примера вам...». То есть шла...[u6] И это вопросы, собственно, повторялись в разных камерах от разных людей. И только поэтому я научился, собственно, по таким вопросам безошибочно контролировать своих соседей. Вообще говоря, такая ситуация, где стукач является в камере парией и, вообще, боится разоблачения - это уже давно пройденный этап. Просто если в камере сидит один несчастный хилый политзек и два крупных мошенника с двумя срока, то понятно, кто будет находиться в более выигрышном положении. Пару раз я по наивности пытался говорить им в лицо, что они стучат. В общем, каждый раз дело чуть не кончалось дракой. После этого я решил, что, может быть, действительно, есть смысл попробовать с ними поиграть в такую, так сказать, интеллектуальную конфронтацию. Я, честно говоря, до сих пор не знаю. насколько мне удалось убедить ГБ в своей версии. Вообще, говорить о судьбе шрифта, время, по-моему, до сих пор ещё не пришло. Но судя по тому, что они как-то успокоились и не требовали от меня позднее, в ходе тех или иных прощупываний на зоне и в тюрьме... Уже никто не ждал от меня рассказов про шрифт, и я понял, что они как-то мою версию приняли, может быть, даже как-то сами не до конца веря в неё. Но для отчёта, для какого-то своего, там, начальства, они её, вероятно, использовали. АП: Игры с наседками были единственными играми на следствии? Или же были попытки как-то играть непосредственно со следственным аппаратом? МР: В самом кабинете у меня отношения со следователем были упрощены до предела. В момент, когда мне предъявили постановление о задержании, я официально объявил об отказе от дачи показаний. И дальше на все вопросы (любые, начиная, там, от вопросов о погоде и кончая, там, предъявлением мне показаний своих подельников), я повторял эту формулу, что «я отказываюсь отвечать на любые вопросы по данному делу». Когда мне говорили: «Позвольте, ну это же не вопрос по делу, а вопрос так...». - «Вопросы не по делу мы с Вами с удовольствием обсудим потом. Когда-нибудь мы ещё раз встретимся и обсудим. А пока я здесь - обвиняемый и давайте говорить только по делу.» Он говорит: «Но по делу же Вы отказываетесь...» Я говорю: «Совершенно верно: а вот по делу я отказываюсь отвечать на любые вопросы». АП: Это в точности повторяет позицию на следствии Вячека Игрунова (по его словам). МР: В какой-то момент, правда, я и здесь решил (вроде(?) как, так сказать, убеждённый оппортунист и сторонник компромиссов)... Я и здесь пошёл на компромисс. Это было, когда ребята уже написали свои прошения о помиловании, и за меня взялись /нрзб./[u7] . Я сказал, что «я готов в частном порядке начать с Вами дискуссию при соблюдении двух условий. Во-первых, мои показания (вернее, мои объяснения) не протоколируются, и протокол ведём отдельно. (Обрыв записи.) [u8] ...Первое условие: что речь идёт о непротокольных показаниях. Второе условие: что речь идёт только о моих убеждениях, и мы никак не затрагиваем какой-то моей практической работы. И третье условие: естественно, что мы ни в коем случае ни прямо, ни косвенно не затрагиваем других людей. А так просто поговорить «за жизнь» и о моих убеждениях без протокола я согласен». И вот начались эти разговоры. Начались разговоры со следователем по особо важным делам Следственного отдела КГБ СССР подполковником Николаем (по-моему, Владимировичем) Губинским. Он - умный мужик. В общении(?) с ним не было /нрзб./. Его знают, надо сказать, многие из нашего круга. Он со многими работал. И с ним иногда было интересно вести дискуссию. Пока он не срывался на такой командный стиль. Но он, конечно, всё-таки следователь, а не философ. Поэтому, хотя он, вроде бы, говорил об идеологии, но если была малейшая возможность свернуть разговор на практические стороны нашей деятельности, он, конечно, это делал. И тут вот я почувствовал, насколько же всё-таки мудро поступают люди, которые отказываются говорить вообще. Потому что эта грань нравственная(?) совершено неуловима. И каждый раз я останавливался вовремя, но каждый раз это вносило какую-то дисгармонию в казалось бы налаживающиеся человеческие отношения. Они в этом плане мастера. Они умеют какими-то неуловимыми приёмами (в сущности, простыми, но эффективными) создавать атмосферу нормальных человеческих отношений между следователем и обвиняемым. Это не сложно, учитывая, что до этого этот человек сидел в камере с уголовниками, постоянно находился в страшном напряжении. А тут его просто сразу привечает(?) атмосфера нормального человеческого общения. Какие-то простые вопросы: просто, там, действительно, о жизни, о здоровье. Говорят несколько слов о том, что, там, вот мама передала поесть. Это невольно влияет. Это такой классический пример, что голодного человека в тюрьме достаточно, может быть, один раз досыта накормить, и он подпишет подписку о чём угодно. ...И мне стоило большого труда каждый раз переламывать вот эту вот теплоту и резко пресекать все его разговоры на том месте, которое для него было самым интересным. И я понял, что, может быть, действительно, я, вообще, зря вступил с ним в эти теоретические дискуссии, что никому это было не нужно. А подсознательно я и сейчас могу объяснить, что и мне самому уже тоже надоело переругиваться с соседями по камере. Тоже хотелось какого-то нормального человеческого общения - поговорить о каких-то отвлечённых предметах. Вот. Вот. То есть, на самом деле, такого интеллектуального поединка не было. Мне, честно говоря, ни разу не удалось в разговоре со следователем протолкнуть свою версию какого-то события или навести его на ложный след. Не могу этим похвастаться. (Обрыв записи.) АП: А Вам трудно было определять следующую ступень, на которую можно бы было отступить, когда становилось ясно, что что-то уже стало известно? Как, в частности, это было в случае с письмом коммунистических лидеров. Меня интересует психологическое состояние человека, который сидит в камере, сопоставляя, кому были известны какие его действия и через кого могло что-то стать известно. Я формулирую это не очень конкретно... МР: Я прекрасно понимаю этот вопрос. Я знаю, что для человека, который попадает под следствие, это, обычно, главное развлечение - понять, откуда, как и какими каналами шла утечка. Но вот я, очевидно, был очень нетипичным подследственным, потому что мне это, честно говоря, было не очень интересно. Я знал, что мне дадут в конце материалы следствия, я их просмотрю (что и случилось) и просто прочитаю по протоколам, кто что сказал. И потом: ну не так всё это мне было важно. Их позиция принципиально, в целом, уже [была] ясна мне. Кто первым назвал какой-то факт, кто первым упомянул ту или иную встречу - какая разница в конце концов. Они наперегонки давали информацию. Это - не тот случай, когда мы должны были выискивать, расшифровывать какого-то запрятанного в нашей среде провокатора. Показания лились рекой. Но кто-то первый подтолкнул к ним. Может быть, это был Паша Кудюкин. (Судя по всему, так оно и было.) Но остальные настолько синхронно сразу включились в это дело, что, в общем... Я думал о других вещах. Я думал о специфике своего положения именно в том плане, что первоначальная моя задумка была произнести на суде речь в стиле Петра Алексеева. Но ситуация [получалась] глупая. Практически вся наша группа состояла из людей ну не очень достойных. И отстаивать что? В чём [мог быть] пафос моей речи? Отстаивать справедливость тех идей, которые тут всеми уже (всеми буквально) оплёваны? Ну это же нелепо. Тем более, что и сам я, честно говоря, всё больше к концу, в последние месяцы перед арестом, склонялся к мысли, что это - совершенно не лучшее времяпрепровождение для меня, и за три месяца до ареста просто формально заявил о выходе из игры. То есть я в каком-то смысле лишился права отстаивать наше дело. Заявить просто о своих этических и нравственных принципах противостояния насилию, - это, вероятно, единственное, что мне оставалось. Не вдаваясь в какие-то подробности, не акцентируя [внимания] на реалиях нашей деятельности, а просто заявить о том, что это - неправый суд, и я не считаю себя преступником. Что, собственно, я и сделал в своём последнем слове. АП: Какие-нибудь интересные моменты были у Вас?.. М. Перевозкина: Можно я прерву? Дело в том, что, действительно, мы сейчас уже наговариваем... Это в интервью не пойдёт. Мы уже наговорили на книгу. Просто Вы зациклились на следствии... АП: Я не могу остановиться. Нет-нет, я уже всё. МП: Но там ещё множество всего... МР: Ну значит, если не можете... АП.: Нет. Нет. МР: ...надо это остановить волевым порядком. АП: Нет-нет: я уже... Нет: я уже... Я уже всё. Я... МП: Да, потому что там вон о следствии ещё сколько всего. АП: А я уже... уже заканчиваю. МП: А вот Вы выясняете уже какие-то такие мелочи... АП: Нет, нет. Я вот хотел задать последний вопрос - о том, было ли [на следствии?] что-нибудь интересное. МР: Нет, нет. АП: Ничего не было... (Все дружно смеются, - АП.) Тогда - вопрос, который охватывает сразу несколько лет: как Вы перенесли заключение? МР: Ну как сказать? Сложный вопрос. АП: Ну, в основном, [меня интересует] последующее отбытие наказания, что ли... МР: Да я понимаю, что заключение это и есть отбытие наказания. АП: Нет, следственное заключение [это] тоже был большой кусок всё-таки. МР: Ну это был действительно очень сложный период моей жизни. Эволюции шли непростые. И, я думаю, сегодня я их могу оценить тоже неоднозначно. В целом я стал другим человеком. Другим. В результате я стал значительно менее самонадеянным к концу своего срока. Хотя был какой-то период в зоне (особенно в зоне - в 84-м году), когда я себя считал просто героем - по сравнению, например, со своими подельниками да и, отчасти, с соседями по зоне - и возомнил о себе Бог знает что. И это в каком-то смысле был опасный период. Человек, которого, грубо говоря, в этой стадии его духовной эволюции выпускают на свободу, опасен: он может поднять людей на авантюру, повести их за собой чёрт знает куда. (Он уверен в своей правоте, в своём праве решать за других.) Я испытал это состояние и понимаю, насколько оно опасно. Я уже говорил Вам, Марина, что я испытал в какой-то момент прямо противоположное состояние. Я понял, как люди ломаются. Понял, что чувствует человек, когда он ломается (был такой период), и просто Всевышний не допустил меня до каких-то конкретных действий. Потому что в тот момент (просто в данную минуту) никто не открыл дверь и ничего мне не предложил. Но морально я испытал это состояние на себе и примерил его тоже. И в конце концов пришёл к какому-то такому простому, но очень дорого обычно дающемуся пониманию ограниченности своих сил, сознанию того, что страшный грех - брать на себя больше, чем сможешь выдержать. И в то же время ещё, наверное, не менее страшный грех - не делать того, что всё-таки сделать сможешь. И что нужно искать (и желательно искать не ощупью, а заранее трезво оценивая силы) вот этот вот средний путь для себя и идти по нему. АП: Что-нибудь интересное было в заключении, что /нрзб./? МР: Интересного? Интересного было немало. АП: ...Яркое? МР: Но самое, может быть, яркое впечатление, конечно, оставил день, когда мы узнали о том, что Анатолия Марченко увезли из тюрьмы. Мы знали, что он голодает уже несколько месяцев и что он очень слаб. И, в общем, было какое-то подсознательное чувство, что это ему может не кончиться добром. АП: Это когда Вы были в Чистополе? МР: Да. Это - декабрь 86-го года. Я был в Чистополе, и вдруг - раз, Григорьянц... Я сидел с Евгением Михайловичем Анцуповым в камере, а напротив сидел Григорьянц. ...Раз, Григорьян стучит в дверь камеры и громко говорит прямо на коридор (что было грубейшим нарушением - почти гарантированный карцер): «Я, Сергей Григорьянц, с температурой 40 градусов объявляю голодовку с требованием немедленно дать объяснения по поводу судьбы Анатолия Марченко. Его книги исчезли из нашей библиотеки (где каждый хранил свои книги, - МР), и я знаю, что его нет в тюрьме. Что с ним случилось, где он, и почему он исчез на пятом месяце своей голодовки?» И, в общем, мы были склонны к тому, чтобы его поддержать. Во всяком случае, я был склонен к этому. Но буквально на следующий день (на следующий день, по-моему, было 10 декабря, и я в любом случае проводил свою регулярную голодовку), а 11-го зашёл... АП: Регулярную по 10-ым декабря? МР: Да, по 10-ым декабря. ...А 11-го числа с утра зашёл начальник отряда. Человек вёл себя очень нетипично для советского надзирателя: зашёл к нам прямо в камеру, сел на нары, закурил и стал рассказывать, что, вот, да, действительно, Марченко... Ну вы знаете, что голодовку он снял, да? Да. Вот. И он чувствует себя, конечно, очень тяжело: всё-таки возраст, то, сё. Но ходит он сам. Вот его, действительно, перевезли в Казань, в больницу. Ну вот. Посмотрел ещё так на Анцупова и говорит: «Вот он ходит приблизительно как Вы». И вот когда спустя уже несколько месяцев я понял, что всё это он говорил о покойнике, зная, что этот человек уже мёртв несколько дней, мне, конечно, вот эти слова его, и поза, и вот такой вот чистый, открытый взгляд (когда он всё это говорил) - всё это врезалось в сознание до конца дней. То есть я понял, что для них вот... (Обрыв записи.) АП: ...Возможность: попали бы в такую же ситуацию, повторили бы свой путь или как-то по-другому прошли бы его? МР: С Божьей помощью повторил бы тот же путь, но только, может быть, не стал бы играть в какие-то глупые игры с наседками, нашёл бы способ сразу обрывать все их вопросы, не вдаваясь в какие-то объяснения. И, вероятно, не стал бы вести теоретические дискуссии со следователями тоже. АП: Нет, я имею в виду - деятельность... МР: А, деятельность на воле? АП: Да - политическую. МР: Деятельность на воле... АП: Я нечто подобное [уже] задавал, но не помню, чтобы был ответ такой вот какой-то философский, обобщающий. Насколько это, вообще, необходимо было рисковать, жертвовать свободой? МР: Это, действительно, важный вопрос. Какого-то рационально обоснованного ответа тут нет. Эта внутренняя потребность человека противостоять насилию и лжи, которая толкает его на какую-то явную заведомо неоправданную жертву, этот самый феномен, который Александр Исаевич описал в статье «Жить не по лжи» - когда человек физически не в состоянии жить и играть свою роль в этом театре абсурда, который ему навязывают... Ему уже всё равно, что с ним сделают. Но один раз просто совершить какой-то поступок - это для него уже важнее всего. АП: Если бы ситуация именно с Вами повторилась, и даже если б Вы знали, что грозит наказание, то всё равно так же?.. МР: Я надеюсь, что, действительно, хватило бы сил. И если приведётся, то не подкачаю и в будущем. АП: Ну мне, наверное, нечего больше задавать. Марина, давайте Вы теперь своё интервью берите. МР: /Нрзб./ МП: Нет, ну вот, может быть, рассказать: Вы сидели с Казачковым, да? МР: Да. Я очень хорошо помню эти дни, которые я с Мишей провёл. Я, действительно, тогда был новым человеком в Чистополе, а он там был уже старожилом. (Это был уже его третий срок в Чистополе.) Он очень много рассказывал мне о тюрмье(?), потому что это важно, на самом деле. Человек, попадающий в тюрьму из зоны, в какой-то момент может пострадать просто из-за того, что не видит специфики, не видит большой разницы между стилем отношений - стилем отношений внутри камеры и с тюремщиками. Нужно обучаться каким-то азам. Так же, как человек обучается в зоне, так он должен обучаться и в тюрьме. И Миша очень много мне объяснил и рассказал. Вообще, меня поразила интеллектуальна свобода, абсолютная раскованность этого человека, его полная незакомплексованность, его готовность отстаивать своё мнение по любому вопросу и абсолютно смело, непринуждённо его высказывать. В то же время это у него сочеталось (как у каждого настоящего, истинного интеллигента) с терпимостью к чужому мнению, с готовностью послушать и другого человека тоже - когда тот что-то тут рассказывает, говорит. Меня просто подкупила его необыкновенная эрудиция. Ну, живопись он знает просто профессионально. (Он - коллекционер во втором поколении.) Об этом я просто не говорю. Он совершенно на профессиональном уровне мне какие-то вещи пытался объяснять. Я не всё понимал. Но вот поэзию, например, он не только на русском языке, но и на английском мог цитировать буквально часами. На французском тоже кое-что читал. Познания его в области философии - энциклопедические. И об этом как раз мы с ним в первую очередь и говорили. Он много интересного рассказывал о соседях по Чистополю - и о тех, которые были до моего появления, и о тех. с кем предстоит сидеть. Это было очень и поучительно и, конечно, практически полезно. Больше всего мне запомнился, конечно, тот день, когда сообщили о смерти Черненко. Потом - об избрании Горбачёва. И сегодня я вспоминаю, что для меня с тех пор прошла целая жизнь и, может быть, не одна. Сменилось столько событий, столько лиц, и я стал совсем другим человеком. Не только я - страна пережила целую эпоху. Иностранцы не узнают того государства, в котором они были в 85-м году. А Миша сейчас сидит вот в той же самой камере, может быть (уж в соседней - наверняка), смотрит на те же самые грязные стены, и это, действительно. противоестественно и показывает, в общем, условность тех перемен, которые происходят. АП: Он, по-моему, в 35-й зоне ведь. Или нет? МР: Нет, нет. Он отсидел какое-то время в 35-й зоне, и в четвёртый раз был переведён в порядке наказания в Чистополь на три года. АП: Миша, Вы не ответили на мой вопрос о хронологических рамках Вашей деятельности... МР: Ну... АП: ...Когда она прервалась и... МР: Ну, прервалась она в момент ареста - 8 июня 82-го года, когда /нрзб./ прервалась. Я не считаю, что мой формальный выход из дела где-то в начале января 82-го был перерывом. Я заявил им формально о том, что я прекращаю работу, но фактически там какие-то контакты были завязаны на меня, и я должен был их передавать. А это - дело непростое и очень долгое. Книги (часть литературы) хранились у меня. И вот на момент ареста моих подельников 6 апреля у меня были какие-то и встречи назначены. Когда я выходил из дома, я, собственно, до сих пор не понимаю, почему я не взял с собой самиздат на очередную встречу. Вот 6 апреля, когда меня на улице взяли, я впервые, по-моему, за четырёхлетнюю практику пошёл на условленную встречу, не взяв тех книг, которые должен был взять. Это до сих пор для меня... АП: Вы не после этого уверовали? МР: Нет. Нет. Ну такие, скажем, мелкие трюки могут быть и в ту, и в другую сторону. И они не влияют на серьёзного человека. Это - так. Для тех, кто уже готов морально, это может помочь. МП: Вот, может быть, тогда - о чём мы [уже] говорили?.. МР: Израиль? МП: ...В интервью, да. Вот на эту тему. АП: Я тоже хочу сказать: Вы на всякий случай просто в продолжении разговора (пока плёнка есть) записать и... МП: Ну вы потом договорите, как мы разделимся(?), чтобы /нрзб./. МР: Ну ладно. АП: Почему Вы вдруг уехали? (Так вот, может быть, этим закончить.) /Нрзб./ МП: Почему - это понятно. МР: Нет, это не понятно. Вот я осмелюсь утверждать, что если Вы сейчас... МП: /Нрзб./, что если еврей уезжает в Израиль? АП: Ну... МР: А это... Я не... Простите, Марина. Я вот возьму на себя смелость сказать, что я - не просто еврей, что у меня был, как говорят израильтяне, свой сипур, то есть некая своя предыстория. Дело в том, что я уехал... Я, скажем, не уехал бы отсюда (и не собирался уезжать) даже после того, как я одел кипу и стал учить иврит. Я не собирался уезжать отсюда, и я планировал еврейскую жизнь здесь. И не уехал бы, если бы, действительно, не убедился, выйдя на свободу, что здесь жизнь потекла совсем иная и что здесь я уже не так крайне необходим, как раньше. Что, да, эзотерическая и жертвенная (по-настоящему жертвенная) деятельность, в которой я как-то чувствовал себя на месте и, действительно, был уже не новичком, что сейчас она здесь уже немыслима, что работа ведётся другая: работа ведётся, наоборот, такая широкая, массовая и требует совсем другого подхода и других людей, других отношений. В общем, пока я не видел для себя здесь какого-то особого места. Я понял, грубо говоря, что эту работу прекрасно сделают другие и лучше меня. А что там происходит, в той стране, я просто не знал. И, в общем, действительно убеждён, что моё место сейчас там. Что те знания, тот духовный experience, который я приобрёл здесь, они в каком-то смысле могут быть полезны обществу, которое из своей среды не может выделить этого духовного опыта. АП: И какой Вы нашли эту страну? МП: /Нрзб./. АП: А-а. МП: Ну мы договорились, что Вы просто опишите... МР: Просто об Израиле? ПМ: Да. МР: Хорошо. МП: Расскажите о проблемах... МР: Страна прежде всего поражает, конечно, своим восточным, азиатским, колоритом. Это - государство, которое я не рискнул бы включить в европейское сообщество народов. Даже в самом первой приближении, когда мы говорим, куда склоняется Израиль - к Востоку или к Западу - всё-таки чащу весов перевешивает, скорее, в сторону Востоку. Хотя внешние атрибуты жизни - технологии, какие-то предметы быта, техника (конечно), одежда, транспорт - всё это, безусловно, западное и не намного уступает тому, что вы увидите в Европе. Ментальность людей, стиль отношений между людьми, особенности и то значение, которое уделяется мимике, подтексту, умолчаниям в разговоре - всё это заставляет сразу вспомнить Восток. Требуется очень долгое вживание и врастание в этот стиль, особенно для человека, который приехал из такого города, как, допустим, Москва, Нью-Йорк или Париж. Сначала я после какого-то неизбежного периода эйфории был просто шокирован тем, что мне казалось неискренностью, закрытостью израильтян, некоторой даже, может быть, лицемерностью. Потом я понял, что я просто не желаю понимать простые, элементарные символы, которые однозначно расшифровываются и в ходе(?) взаимного общения. Что, скажем, моя позиция тут точно так же трактуется ими как явное пренебрежение к общепринятым нормам, наглость и, в общем, бестактность и бесцеремонность. Что, поскольку в явном большинстве - они, а не я, то я должен учиться их языку и их стилю общения. Но это - далеко не просто и не однозначно решаемая задача. То есть, есть вещи, которым я, например, честно говоря, и не очень хотел учиться. Вот. Всё-таки речь идёт именно об удивительной способности израильтян поставить человека на место, очень жёстко его осадить за какое-то мелкое нарушение, скажем, ритуальных правил общения. Там этому уделяется колоссальное значение. И такое нарушение автоматически воспринимается как сознательный вызов, неуважение не только к собеседнику, но и к системе отношений (к обществу в целом). Человека сразу ставят на место, не говоря ему при этом прямо, может быть, ни слова, но таким холодом могут окатить, что пропадёт желание ещё раз испытывать подобные чувства. Я считаю, что в обществе достаточно зрелом, обществе духовно раскрепощённых и незакомплексованных людей такая ситуация немыслима и что там люди более терпимы к таким формальным нарушениям. Я не хотел бы сейчас переводить всё на язык каких-то реалий. О реалиях-то можно говорить часами - о каждой стране. Я хотел бы дать духовный имидж. Очень, конечно, поражает отсутствие какой-то единой ментальности. Это, всё-таки, несколько... Где-то(?) есть чисто восточный стиль мышления и, наоборот, чисто ашкеназский, западный. Есть какой-то свой, типичный для коренных израильтян. (Ну ближе тоже всё-таки к восточному. Ближе к восточному.) Хотелось бы всё-таки перед тем, как я продолжу, услышать конкретные вопросы (если можно). МП: С моей стороны? МР: Да. АП: Меня эта часть чего-то не заинтересовала. МП: ? АП: Меня эта часть не заинтересовала. МР: Это и не может заинтересовать. Это речь идёт, скажем, о моём очень субъективном видении этого мира. А реалии хороши, когда мы сразу очертим конкретно, что нас волнует, какая тема... АП: Я теперь могу только болтать просто лично, вот... МР: Ну болтать, может быть, мы сейчас... АП: ...То, что мне самому интересно - при включённом просто так /нрзб./. МР: Понятно. Ну, просто, может быть, действительно, я ещё что-то скажу Марине тогда? АП Да, конечно. Я и говорю об этом. МР: Ну конкретно: вот какая сторона жизни волнует больше? МП: Ну, конечно, духовная. МР: Духовная... Ну, давайте, поговорим о духовной жизни. Духовная жизнь Израиля достаточно интенсивная. Есть действительно прекрасные современные театры, балет. Есть очень неплохие писатели. (Обрыв записи.) 3 сентября 1990 г. Ленинград
[u1]Про невидимые чернила я не мог говоить Вам в интервью, поскольку меня самого этому никто не учил, и я тоже этому никого обучать не мог. Эту часть предложения я предлагаю убрать.
[u2]У Константина Барановского. Но я не думаю, что имя имеет значение для читателя. [u3]Двадцать это весьма преувеличенная цифра. Я не мог её назвать в таком контексте, а если и назвал, то явно ошибся. Таких случаев было три-четыре. [u4]В январе восьмидесятого [u5]Восьмидесятого года [u6]Двойная игра: я делал вид, что верю, будто меня спрашивают просто из любопытства, а наседка делал вид, что серьёзно относится к моим ответам. [u7]очень серьёзно. В камеру подсадили двух крепких "прессовщиков", и они мне буквально не давали не минуты покоя. Это была вторпя половина мартп -- апрель 83-го [u8]В протоколе по-прежнему указывается, что на все вопросы я отвечать отказываюсь Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



